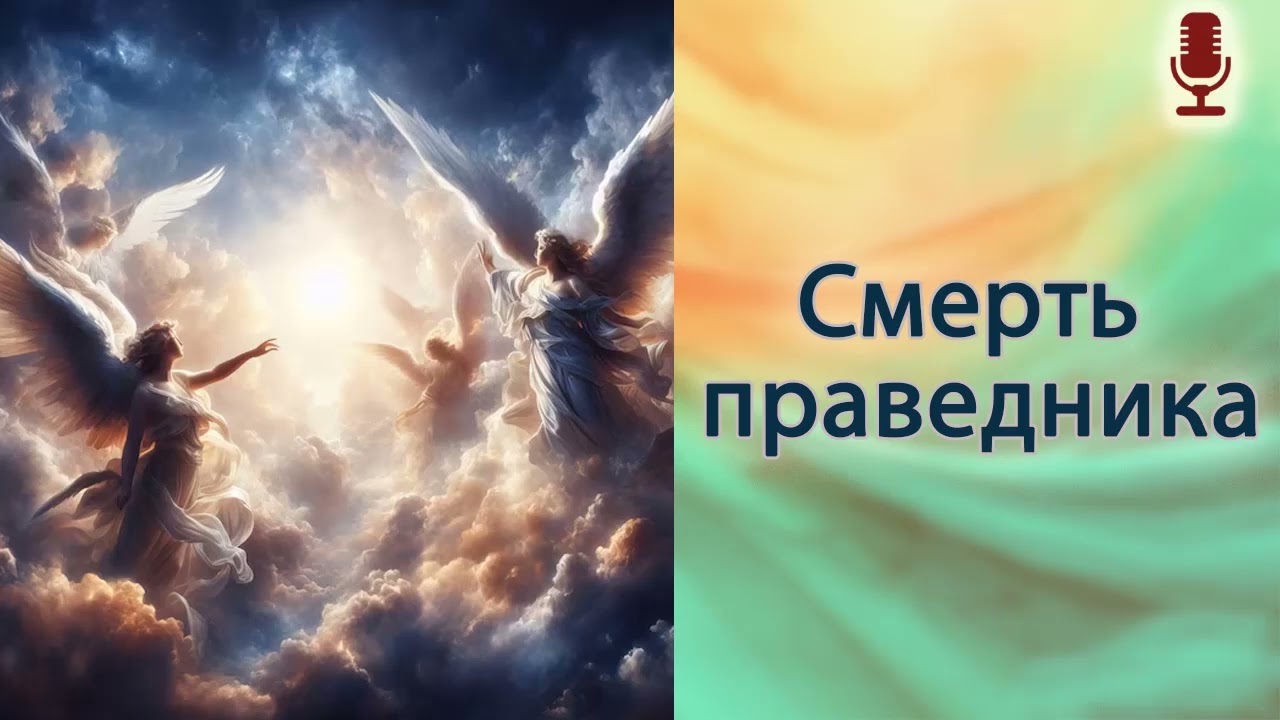Битва, которая не кончается
В те далёкие времена, когда египетская пустыня стала прибежищем для тысяч искателей Царствия Небесного, когда песчаные просторы Скита населились подвижниками, оставившими мир ради единого на потребу, — жил там авва Агафон, муж великой святости и смирения. Прожил он с родителями своими сорок лет, исполняя заповедь о почитании отца и матери, а затем, когда настало время, оставил всё и удалился в пустыню. Там, в безмолвии раскалённых песков, где небо сходится с землёй на горизонте в дрожащем мареве, где нет ничего, что могло бы отвлечь душу от Бога, провёл он десять лет в строжайшем подвиге. И ещё пятьдесят лет стоял он столпником в Сакхе, превзойдя меру человеческую в терпении и молитве. Братия, приходившие к нему за советом, видели не просто подвижника, но живое воплощение иноческих добродетелей. Лицо его, иссушённое постом и палимое солнцем, хранило печать глубокого мира — того мира, который даруется лишь тем, кто долгие годы пребывает в непрестанном богообщении. Морщины, залегшие на лице старца, были как строки невидимой книги, в которой записаны были все его молитвы, все борения, все победы над невидимым врагом. ________________________________________ В один из дней, когда солнце уже клонилось к западу, окрашивая пески в медные тона, к келлии аввы Агафона пришла братия. Шли они издалека, через выжженную зноем пустыню, ведомые жаждой — но не той жажды, что терзает тело, а той, что мучит душу, ищущую истины. Старец принял их с кротостью, свойственной истинным подвижникам, которые видят в каждом приходящем образ Божий и возможность послужить ближнему. Он усадил братию в тени своей скромной келлии, где прохлада камней давала некоторое облегчение от нестерпимого жара, и сам расположился перед ними, готовый отвечать на их вопросы. Братия долго сидели молча, собираясь с духом. В пустыне время течёт иначе, чем в миру — здесь молчание не тяготит, но наполняет, здесь тишина не пуста, но полна присутствия Божия. Наконец, один из иноков, старший среди них, осмелился заговорить. Голос его звучал негромко, с почтением, какое подобает ученику, обращающемуся к учителю: — Авва, мы пришли к тебе с вопросом, который давно тревожит наши сердца. Мы видим, что путь иноческий полон трудов разных: есть пост, есть бдение, есть молчание, есть рукоделие, есть чтение Писания. Скажи нам, отче, по опыту твоему великому: какая добродетель в подвижничестве имеет больший труд? Какой подвиг труднее всех прочих? Авва Агафон помолчал. Он не спешил с ответом, как не спешат те, кто научился взвешивать каждое слово, понимая, что слово — это семя, которое может прорасти в душе слушающего либо добрым плодом, либо терниями. Глаза его, глубокие и ясные, смотрели куда-то вдаль, словно старец всматривался не в пески пустыни, но в глубины собственного многолетнего опыта. — Простите меня, братия, — начал он наконец, и в голосе его звучало то смирение, которое приобретается лишь долгими годами борьбы с гордостью. — Я полагаю, что нет большего труда, как молиться Богу без рассеяния. Братия переглянулись. Ответ этот был неожиданным для них. Они ожидали услышать о посте, который иссушает тело, или о бдении, которое лишает сна, или о безмолвии, которое требует отречения от всякого человеческого утешения. Но молитва? Разве молитва не есть отрада для инока, разве не к ней стремится всякая душа верующая? Старец, видя их недоумение, продолжил, и слова его текли медленно, как вода из глубокого колодца, поднимаемая с великим трудом, но дающая живительную прохладу: — Знаете ли вы, братия, что происходит, когда человек хочет молиться? В тот самый миг, когда душа его обращается к Богу, когда ум его пытается собраться и устремиться горé — именно в этот миг враг спешит воспрепятствовать молитве. Демоны знают, братия мои, знают они хорошо, что ничто так не опасно для них, ничто так не противодействует им, как молитва, принесённая Богу от всей души. Он умолк на мгновение, и в этой паузе братия могли услышать, как ветер шуршит песком у стен келлии, как где-то вдали кричит пустынная птица. Всё в пустыне располагало к молитве — и тишина, и простор, и отсутствие всего того, что отвлекает в миру. И всё же старец говорил о молитве как о величайшем труде. — Понимаете ли вы, что я хочу сказать? — продолжил авва Агафон, и теперь в голосе его звучала та особенная сила, которая свойственна тем, кто говорит не от книжного знания, но от опыта. — Всякий подвиг, какой бы ни предпринял человек, посвятивший себя иноческому житию, имеет в себе некоторое успокоение. Постишься ли ты — тело твоё через время привыкает к малой пище, и пост становится легче. Бодрствуешь ли ночами — плоть твоя научается обходиться малым сном. Храни́шь ли молчание — язык твой отвыкает от празднословия, и безмолвие делается естественным. Во всяком подвиге, братия, если нести его настойчиво и постоянно, человек стяжавает и имеет некоторое упокоение. Старец поднял руку, и жест этот был полон значения: — Но молитва! О, молитва — это совсем иное. Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. До последнего вздоха, братия! Нет привыкания к молитве, нет облегчения в ней, нет того покоя, который приходит в других подвигах. Каждый раз, каждый день, каждый час — всё заново, всё сначала. ________________________________________ Братия слушали, затаив дыхание. Они начинали понимать, о чём говорит старец. Каждый из них знал по собственному опыту, как трудно собрать ум во время молитвы, как легко он разбегается, хватаясь то за одну мысль, то за другую, как сложно удержать его в словах молитвенных. Один из братий осмелился спросить: — Но почему так, авва? Почему именно молитва столь трудна? Старец посмотрел на него с отеческой любовью: — Потому что молитва — это сама́ сущность нашего делания, это само́ сердце иноческого подвига. Всё прочее — пост, бдение, рукоделие — всё это лишь листья на древе, а молитва — это плод. Писание говорит: «всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Видите? Не о листьях говорится, но о плоде. Он помолчал, давая братии время вникнуть в эти слова, а затем продолжил: — Враг знает это. Лукавый враг наш знает, что если он не может отвратить человека от поста или от бдения — не столь великий будет вред. Но если он сможет разорить молитву, если сможет наполнить ум молящегося множеством помыслов, развлечь его, рассеять внимание — тогда всё прочее делание становится бесплодным. Дерево, покрытое листьями, но не дающее плода — разве не это самое горькое зрелище? Авва Агафон говорил тихо, но каждое слово его ложилось в сердца слушающих тяжёлым грузом истины: — Я скажу вам из опыта многих лет, братия. Начнёшь молиться — и вдруг вспомнишь о рукоделии, которое не закончил. Погрузишься в молитву — и вот уже ум твой унёсся в воспоминания о прежней жизни. Сосредоточишься вновь — и явится помысел о том, как хорошо было бы поесть, или поспать, или повидать братию. Прогонишь эти помыслы — придут другие, более тонкие: о добродетели твоей, о том, как хорошо ты молишься, о том, что ты уже достиг чего-то. И это — самое опасное, ибо это уже не просто рассеяние, но прелесть, гордость, падение. Один из братий, самый молодой, не выдержал и воскликнул: — Но как же тогда молиться, авва? Если это столь трудно, если враг столь силён, если борьба не прекращается никогда? Старец улыбнулся — той кроткой улыбкой, которая озаряет лица святых: — А разве я сказал, что не нужно молиться? Разве я призвал вас оставить молитву? Нет, братия! Напротив — именно потому, что это есть величайший труд, именно потому, что враг так яростно противится молитве, именно потому она и есть самое главное наше оружие, самое могучее наше делание. Он поднялся, и братия поднялись вместе с ним. Солнце садилось, окрашивая небо в багряные тона, и длинные тени легли на песок. Наступало время вечерней молитвы. — Слушайте же, что я вам скажу, — продолжал старец, и голос его окреп, наполнился силой. — Молитва — это битва. Битва ежедневная, ежечасная, непрестанная. Но это битва, в которой мы не одни. С нами Сам Бог, к Которому мы взываем. И если мы не ослабеваем, если снова и снова, падая, встаём, если всякий раз, когда ум наш рассеивается, мы терпеливо возвращаем его к молитве — Господь видит наше усилие. Он видит нашу борьбу. И Он приходит на помощь. ________________________________________ Братия стояли, потрясённые услышанным. Они пришли с простым вопросом о том, какой подвиг труднее, а получили урок, который запомнят на всю жизнь. Авва Агафон, видя их состояние, добавил уже мягче: — Не смущайтесь, чада мои. Не унывайте от того, что молитва трудна. Всё в духовной жизни трудно поначалу, всё требует усилия. Но знайте: лукавый противится молитве именно потому, что боится её. Если бы молитва была бессильна, зачем бы ему так стараться помешать нам? Само это сопротивление — доказательство силы молитвы. Он обвёл братию взглядом, и в глазах его читалось и сострадание к их немощи, и радость о их усердии: — Каждый раз, когда вы замечаете, что ум ваш отвлёкся в молитве, — не отчаивайтесь. Это не значит, что вы плохие молитвенники. Это значит лишь, что вы ещё живы, что битва ещё идёт. Мёртвые не воюют. Отчаиваться нужно было бы тогда, когда вы перестали замечать рассеяние, когда смирились с ним, когда решили, что молитва и должна быть такой — рассеянной, поверхностной, формальной. Старец сделал паузу, и в наступившей тишине было слышно, как бьётся сердце у каждого из братии. — Враг хочет, чтобы вы оставили молитву, сочтя её слишком трудной. Или чтобы вы молились лишь устами, но не сердцем. Но вы не поддавайтесь! Снова и снова возвращайте ум к словам молитвы. Снова и снова, как воин, который после каждого удара врага поднимает щит и продолжает стоять. Не ожидайте, что станет легко. Не ищите утешения в молитве — ищите Бога. А Бог, видя ваше постоянство, Сам утешит вас в Своё время, Сам даст вам силу устоять. ________________________________________ Когда братия покидали келлию аввы Агафона, сумерки уже окутали пустыню своим прохладным покровом. Звёзды одна за другой зажигались на тёмном небосводе, и их свет, холодный и чистый, напоминал о вечности, к которой устремлена всякая молитва. Старец проводил их до края своего убогого жилища и, благословляя на путь, сказал напоследок: — Помните, братия: молитва — это не то, что мы делаем своими силами. Молитва — это то, что Бог делает в нас, когда мы открываем Ему своё сердце. Наше дело — постоянство, терпение, усердие. А всё остальное — от Него. Идите с миром и молитесь непрестанно, сколько есть сил. А когда силы кончатся — молитесь бессилием своим. И это тоже будет молитва. Братия ушли, унося с собой эти слова как драгоценное сокровище. А авва Агафон вернулся в свою келлию и встал на молитву — на ту самую молитву, о которой только что говорил: трудную, требующую постоянной борьбы, но единственно необходимую, единственно ведущую к Богу. И молился он долго в ту ночь, как молился каждую ночь, как будет молиться до последнего своего вздоха. Потому что для него эта истина — что молитва есть величайший труд — не была теорией, не была лишь учением для других. Это была сама его жизнь, день за днём, час за часом, вздох за вздохом. ________________________________________ Спустя годы, когда приблизилось время отшествия аввы Агафона из этого мира, братия, сидевшие у его одра, спросили его: — Авва, не боишься ли ты суда Божия? И старец, человек, проведший столько лет в подвигах, смиренно ответил: — Я по силе моей исполнял законы Господни, но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу моё дело? Это смирение — плод той самой молитвы, о которой он учил. Молитвы, которая не превозносит человека, но смиряет его. Молитвы, которая не даёт покоя в самодовольстве, но держит душу в постоянном бодрствовании. Молитвы, которая действительно есть самый трудный подвиг — но именно потому и самый спасительный. ________________________________________ Так передавалась эта мудрость из поколения в поколение. Слова аввы Агафона о молитве дошли до нас через века, записанные в Древнем Патерике, чтобы и мы, живущие в иные времена, в иных обстоятельствах, знали: молитва — это труд. Труд ежедневный, труд непрестанный, труд, который не становится легче с годами. Но это тот труд, без которого не обретается Царствие Небесное. Потому что именно в молитве, именно через эту постоянную борьбу за внимание, за собранность ума, за чистоту сердца — именно здесь встречается душа человеческая с Богом живым. И всё прочее — все посты, все бдения, все труды — приобретают смысл лишь тогда, когда приносятся Богу в молитве. Пусть же и для нас эти слова святого старца станут утешением в борьбе с рассеянием ума, ободрением в минуты уныния от кажущейся бесплодности молитвенного труда. Пусть мы помним: если трудно — значит, битва идёт. Если трудно — значит, враг ещё сопротивляется. Если трудно — значит, мы на правильном пути. ________________________________________ Источник: Древний Патерик, глава 12 (Отечник святителя Игнатия Брянчанинова, "Об авве Агафоне", изречение №21) Память преподобного Агафона Египетского: 20 февраля (5 марта н.ст.)