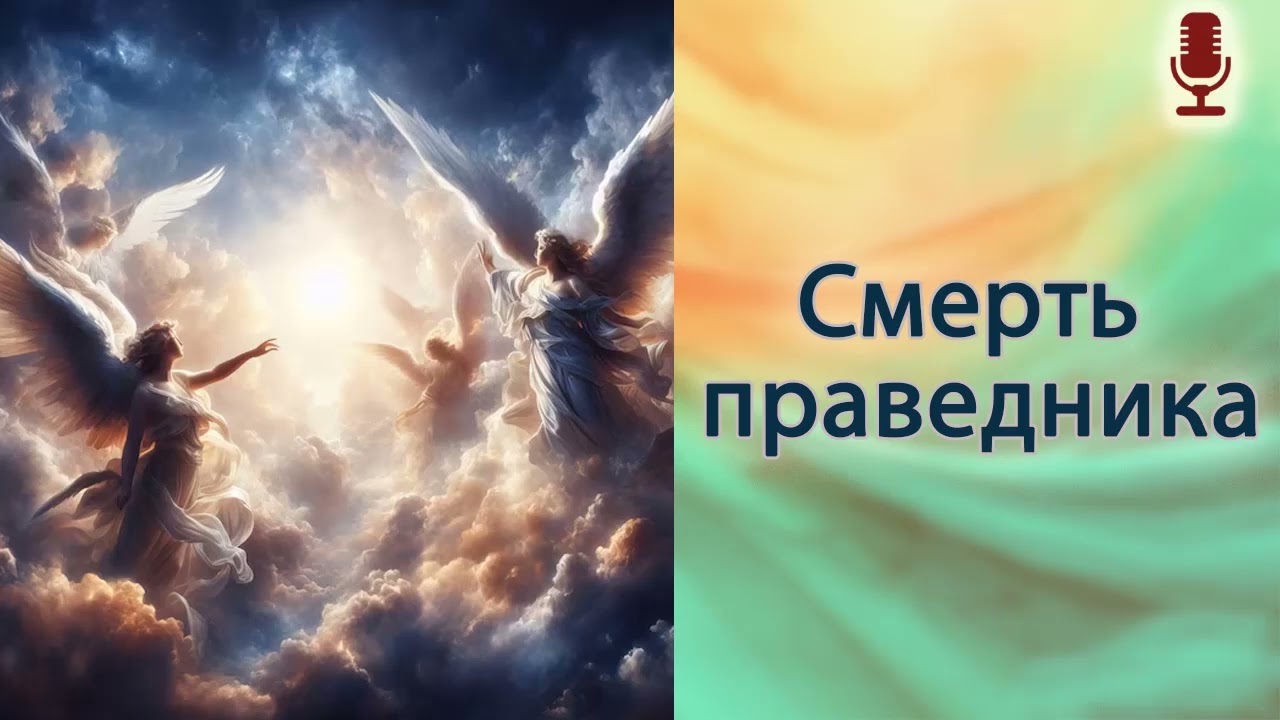Смерть праведника
В те далёкие времена, когда египетская пустыня ещё хранила в своих песчаных объятиях тысячи подвижников, когда память о великих отцах — Антонии, Макарии, Пахомии — была ещё свежа в сердцах их учеников, жил один из величайших пустынников своего времени. Звали его Сисой, и слава о его святости разошлась по всему христианскому миру так широко, что многие называли его вторым Антонием Великим. Шестьдесят лет прожил авва Сисой в той самой горе, где некогда подвизался преподобный Антоний. Он поселился там после того, как великий отец пустынников уже отошёл ко Господу, словно принимая от него эстафету святости. И гора эта, овеянная молитвами и слезами первого пустынника, приняла нового подвижника с тихой радостью. Здесь, среди безмолвия скал и песков, где не было ничего, кроме неба над головой и каменистой земли под ногами, старец Сисой творил своё невидимое делание, восходя день за днём по лестнице духовного совершенства. Жизнь его была столь проста и безыскусна, что казалось — нет в ней ничего особенного. Молитва, труд рук своих, скудная пища, краткий сон на голой земле. Но в этой простоте скрывалась великая глубина. Старец достиг такого смирения, что считал себя последним из людей, такой чистоты сердца, что видел Бога в каждом творении, такой непрестанной молитвы, что имя Иисусово стало биением его сердца. Ученики приходили к нему издалека, жаждущие научиться тайнам духовного делания. И он принимал их с отеческой любовью, но учил не столько словами, сколько самой жизнью своей. Один его взгляд мог сказать больше, чем тысячи поучений. Одно его молчание было красноречивее любых речей. Братия видели в нём живой образ евангельского совершенства, и многие говорили, что если кто хочет увидеть, каким должен быть истинный монах, пусть посмотрит на Сисоя. Но вот настало время, когда даже это крепкое тело, закалённое долгими годами поста и бдения, начало сдавать. Старец почувствовал приближение смерти — не со страхом, но с тихой радостью человека, который всю жизнь готовился к этой встрече. Он не боялся смерти, ибо для него она была не концом, а началом, не разлукой, а встречей с Тем, к Кому всю жизнь стремилась его душа. Ученики собрались вокруг одра своего духовного отца. Они видели, как день за днём тело его слабеет, как угасает земная жизнь в этом теле, некогда столь крепком и выносливом. Но вместе с тем они замечали нечто удивительное: чем больше умирало тело, тем более просветлённым становилось лицо старца. Словно по мере того, как истончалась завеса плоти, всё яснее проступало нечто иное, небесное, вечное. В те последние дни авва Сисой почти не говорил. Он лежал с закрытыми глазами, и губы его едва заметно шевелились — молитва Иисусова не прекращалась даже сейчас, на пороге вечности. Иногда он открывал глаза, и ученики видели в них такую глубину, такой мир, что сердца их исполнялись одновременно и скорби о предстоящей разлуке, и утешения от созерцания этой небесной тишины. И вот наступил последний час. Братия окружили одр старца, преклонив колени. Они молились, плакали, готовясь проводить своего учителя в последний путь. Келья была полна скорби расставания, но в этой скорби уже светилась надежда. Потому что все они знали: не навсегда уходит от них авва Сисой, лишь переходит в иной чертог, откуда будет молиться за них, своих духовных чад. Внезапно старец открыл глаза. Но это был уже не тот взгляд, который они видели прежде. Глаза его светились таким неземным светом, что братия невольно содрогнулись. Лицо Сисоя просияло — и это сияние было не от свечей, горевших в келье, не от утреннего солнца, пробивавшегося сквозь узкое оконце. Это был свет изнутри, свет души, встретившей нечто такое, от чего весь мир преобразился. — Вот пришёл авва Антоний! — произнёс старец, и голос его, только что едва слышный, зазвучал с удивительной силой. Ученики переглянулись. Они ничего не видели, кроме стен тесной кельи и друг друга. Но старец видел то, что было закрыто от их глаз. Он видел великого отца пустынников, своего предшественника, жившего в той же самой горе за много десятилетий до него. Он видел того, чьим стопам следовал всю свою жизнь. — Вот лик пророков! — продолжал Сисой, и глаза его следили за чем-то невидимым, что происходило в пространстве кельи. — Вот лик апостолов! Братия застыли в благоговейном страхе. Они понимали: разверзлись небеса, и старец видит то, что обещано праведным. Он видит тех, о ком читал в Священном Писании, о ком молился всю жизнь, с кем теперь суждено ему пребывать вовеки. Лицо старца всё более просветлялось. Сияние, исходившее от него, становилось таким ярким, что некоторые ученики не могли смотреть на него прямо — словно на солнце в полдень невозможно смотреть незащищёнными глазами. И в этом свете было нечто неописуемое: не просто яркость, но какая-то особая чистота, святость, благодать. — Вот и Ангелы пришли взять меня, — сказал авва Сисой, и слова эти прозвучали так торжественно, так радостно, что ученики, несмотря на слёзы, невольно улыбнулись. — Но я прошу ещё немного времени на покаяние. Эти слова поразили учеников больше всего. Вот он, старец, шестьдесят лет проживший в пустыне, достигший такой святости, что сам Господь посылает за ним Ангелов, — и он просит времени на покаяние! Он, который всю жизнь каялся, который ни одного дня не проводил без слёз о своих грехах, который достиг такой чистоты, что удостоился видеть небесные силы! — Авва, — осмелился сказать один из учеников, — неужели ты нуждаешься ещё в покаянии? Старец перевёл на него взгляд, полный такой глубокой мудрости, такого смирения, что инок невольно опустил глаза. — Истинно не знаю, — ответил Сисой, — сотворил ли я хоть начало покаяния. В этих словах заключалась вся суть его подвига. Вот она, вершина смирения: человек, которого весь христианский мир почитает как святого, сам считает, что едва начал путь покаяния. Человек, к которому приходят за советом издалека, сам полагает себя последним грешником. Это не было лицемерием, не было ложным самоуничижением — это было подлинное видение себя в свете Божием, когда всякая праведность кажется недостаточной, когда всякое делание представляется малым перед величием Божией святости. Ангелы, видимые старцем, ждали. Они не торопили его, но и время земное истекало. Тело Сисоя уже не могло больше удерживать душу — слишком силён был зов вечности, слишком близок был Господь. И всё же старец молился, просил ещё мгновения, ещё вздоха, ещё одного «Господи, помилуй», чтобы войти в вечность чуть более достойным, чуть более очищенным. Братия стояли вокруг, свидетели этой поразительной картины. Они видели, как душа святого восходит к Богу, как небо склоняется к земле, как вечность вторгается во время. И в этом видении было для них великое утешение и великий урок. Утешение — потому что они увидели воочию, что праведников действительно встречают Ангелы, что обетования Божии истинны, что есть воздаяние верным. Урок — потому что поняли: даже на вершине святости нужно смирение, даже у врат рая нужно покаяние, даже в час смерти нужна молитва. Сияние на лице старца достигло такой силы, что казалось — вот-вот лицо его совсем преобразится, станет подобным солнцу, как было с Моисеем на Синае или с Господом на Фаворе. И в этом свете ученики увидели нечто большее, чем просто своего учителя. Они увидели образ того, чем должен стать каждый человек. Они увидели, куда ведёт путь подвига, молитвы, смирения. Они увидели, что обещано тем, кто оставляет всё ради Христа. — Господи, в руки Твои предаю дух мой, — прошептал наконец авва Сисой, повторяя последние слова Самого Спасителя на кресте. И в этот миг лицо его засияло так, что вся келья наполнилась светом. Ученики закрыли глаза, ослеплённые этим сиянием. А когда через мгновение открыли их вновь, увидели: старец лежит тихо, с улыбкой на устах, а на лице его застыло выражение такого мира, такой радости, какой не бывает у живых. Душа его отошла — но не во тьму, а в свет. Не в одиночество, а в ликование святых. Не в небытие, а в полноту бытия. Братия опустились на колени и долго молились над телом своего духовного отца. Они плакали, но слёзы эти были не только скорбью. В них была и радость — радость за старца, достигшего цели. В них была и благодарность — благодарность за то, что им довелось знать такого человека, учиться у него, быть свидетелями его святости. В них была и надежда — надежда на то, что и для них открыты те же врата, что для них уготовано то же блаженство, если только будут они верны тому пути, который показал им авва Сисой. Весть о преставлении великого старца разнеслась по всей пустыне. Приходили монахи из дальних скитов, приходили миряне из ближних селений, приходили даже те, кто никогда не видел Сисоя живым, но слышал о его святости. И все они, глядя на его светлое, умиротворённое лицо, уходили утешенными и укреплёнными в вере. Так передавалась эта история из поколения в поколение, от учителя к ученику, от отца к сыну. И каждый, кто слышал её, получал урок о том, что есть истинное смирение, что значит быть готовым к встрече с Богом, как провожают праведников из этого мира в мир иной. История эта учила: не бойтесь смерти, если жизнь ваша была со Христом. Не страшитесь часа последнего, если дни ваши были наполнены молитвой. Не трепещите суда, если сердце ваше хранило покаяние. И до сих пор, спустя века, когда православные христиане вспоминают об авве Сисое, они вспоминают не только его подвиги, не только его учение, но прежде всего — тот последний час, когда лицо его просияло как солнце, когда он увидел Ангелов и святых, когда небо открылось над его смертным одром. Потому что в этом часе заключена главная истина нашей веры: смерть побеждена, врата рая отверсты, и праведников действительно встречают Ангелы Божии. Источник: Алфавитный Патерик, "Об авве Сисое Великом"