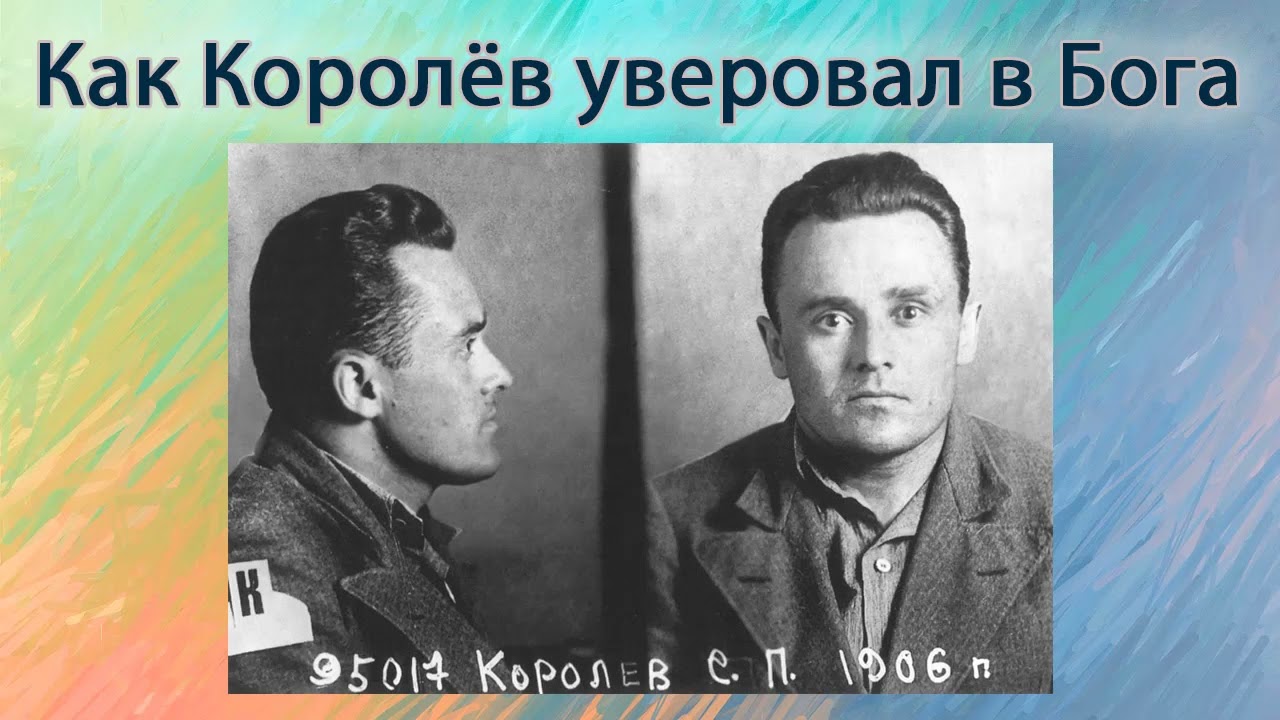Радость от смертного приговора
В те далёкие времена, когда христианская вера ещё только-только начинала свой путь по просторам Римской империи, когда мученики запечатлевали истину Христову собственной кровью, а исповедники носили на теле своём свежие раны за святое имя — в те времена в великой Антиохии, третьем по величине городе империи, жил епископ по имени Игнатий. Был он муж преклонных лет, прошедший долгую стезю служения Господу. Седина венчала его главу, но глаза горели всё тем же огнём, что и в юности, когда он внимал словам самого апостола Иоанна Богослова, своего учителя и наставника духовного. Сорок лет управлял он Антиохийской церковью, созидая паству свою не столько словом, сколько самою жизнью своею, исполненною любви и смирения. И прозвали его Богоносцем — ибо носил он в сердце своём Христа, как драгоценнейшее сокровище, сокрытое от глаз мирских, но сияющее для тех, кто мог видеть. Настали дни, когда император Траян, возвращаясь из похода против армян и парфян, проходил через Антиохию. Донесли ему, что живёт в городе епископ христианский, который открыто исповедует Христа распятого, учит народ презирать богатство земное и блага тленные, вести жизнь добродетельную, хранить девство. Разгневался император — ибо казалось ему, что подрывается сим самый фундамент государства римского, которое зиждилось на поклонении богам языческим и почитании божественного величия цезаря. Но святитель Игнатий, узнав о том, что гнев императорский обрушится на паству его, сам, добровольно, явился пред лицо Траяна. Вошёл он в палаты правителя, сияя тем особенным светом, который бывает у людей, познавших истину и готовых умереть за неё. И император, увидев его, почувствовал невольное уважение к сему старцу, державшемуся с достоинством царственным, хотя и был он всего лишь пастырем небольшой общины презираемых христиан. — Кто ты, что дерзаешь нарушать повеления наши и совращать народ от богов отеческих? — вопросил Траян. — Я — Богоносец, — ответствовал епископ спокойно, — ношу в сердце своём Того, Кто есть Истина и Жизнь. Долго беседовал император со святым Игнатием, пытаясь то угрозами, то обещаниями склонить его к отречению. Предлагал ему богатства, почести, обещал сделать другом своим и советником. Но старец стоял непоколебимо, как скала морская, о которую разбиваются волны. И когда все речи императора оказались тщетны, Траян, не желая казнить столь почтенного мужа в самой Антиохии, дабы избежать смятения в народе, произнёс приговор: — Отвести его в Рим. Там, на арене Колизея, пусть станет он пищей для зверей, дабы все видели, какова участь тех, кто презирает богов и императора. И случилось нечто удивительное: услышав приговор сей, святой Игнатий **возрадовался**. Да, возрадовался так, что изумились даже стражники, привыкшие видеть страх и отчаяние в глазах приговорённых. Ибо для него, прожившего долгую жизнь в ожидании встречи с Возлюбленным своим, смерть была не концом, но началом — началом жизни истинной, встречей с Тем, ради Кого он всё оставил в юности своей. Заковали святителя в цепи. Десять воинов римских приставлены были стражей к нему — суровых людей, которых он позже назовёт в письме своём "леопардами", ибо чем больше благодетельствовал им, тем свирепее становились они. И повезли его долгим путём из Антиохии в Рим — путём, который займёт многие месяцы, путём через всю Малую Азию. Но что творилось в душе святого Игнатия, пока корабль плыл по морским волнам, пока стража вела его через города и веси? О, если бы мог кто заглянуть в сердце его, увидел бы там не мрак отчаяния, не ужас перед грядущим, но свет такой, какой бывает в душе влюблённого, спешащего на свидание с возлюбленной! Ибо шёл он не на казнь — шёл он к Жениху своему, ко Христу, за Которого готов был отдать не только жизнь, но, если бы возможно было, тысячу жизней. Остановился корабль в Смирне. И случилось так, что епископ Смирнский Поликарп, друг его и сподвижник, также ученик Иоанна Богослова, пришёл повидаться с ним. Обнялись они, два старца седовласых, знавших, что видятся в последний раз на земле сей. И стекались к святому Игнатию отовсюду — из Ефеса, из Магнесии, из Тралл — пресвитеры и диаконы, простые верующие, жаждавшие получить благословение от того, кто шёл на венец мученический. Утешал их святитель, укреплял в вере, увещевал хранить единство церковное. А сам, сидя в темнице Смирнской, взял перо и начал писать. И полились из-под пера его слова, исполненные такой силы, такого огня любви, что до сего дня читают их христиане всего мира, изумляясь глубине их и дерзновению. Писал он церквам — Ефесской, Магнесийской, Траллийской, Филадельфийской. Писал другу своему Поликарпу. Но особенное послание, исполненное дерзновения необыкновенного, написал он церкви Римской. Ибо дошло до него, что христиане Рима хотят попытаться освободить его — через знакомых сенаторов, через связи свои, через подкуп стражи. И вот, страшась не смерти, но того, что лишится её, взмолился святой Игнатий к римским братьям: **«Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви! Оставьте меня быть пищей зверей, и посредством их достигнуть Бога!»** О, какое удивительное прошение! Какая непостижимая для мира сего мудрость! Просил он, молил, заклинал — не спасайте меня, не отнимайте у меня радость мою! Ибо видел он в грядущей смерти не несчастие, но величайшее благо, не наказание, но награду превыше всех наград земных. И дальше, словно поэт, воспевающий возлюбленную свою, излил он душу свою в словах, которым суждено было пережить века: **«Я пшеница Божия, и пусть измелют меня зубы зверей, дабы соделаться мне чистым хлебом Христовым! Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего! Приближается рождение моё! Простите мне, братия: не препятствуйте мне жить. Того, Кто хочет принадлежать Богу, не отдавайте миру, не обольщайте его веществом. Оставьте меня получить чистый свет. Когда я приду туда, тогда буду человеком. Позвольте мне быть подражателем страданий Бога моего!»** Поразительные слова! Он называет смерть — рождением, жизнь во Христе после смерти — истинным человеческим состоянием, а земное существование — всего лишь приготовлением к нему. Весь мир перевёрнут в этих словах, вся логика человеческая опрокинута — и в этом опрокидывании открывается логика Царства Божия, где последние становятся первыми, где потерявший жизнь — обретает её, где смерть оборачивается рождением в вечность. Представить только: человек в цепах, человек, которого везут на мучительную казнь, боится не смерти, но спасения от неё! Молит, умоляет — не лишайте меня этой радости, не отнимайте у меня возможности стать хлебом Христовым! И в этом парадоксе — вся суть христианства, вся его немыслимая, безумная с точки зрения мира, но премудрая перед Богом истина. Дальше плыл корабль. Остановка в Троаде — и там уже радостная весть настигла святителя: гонение на христиан в Антиохии прекратилось! Траян, услышав о мужестве Игнатия, устыдился и повелел оставить в покое антиохийских христиан. Возрадовался старец, узнав, что паства его в безопасности, что добился он своей цели — отвратил гнев императорский от овец своих, приняв его на себя одного. И дальше путь его лежал — в Неаполь, в Филиппы, и наконец — в Рим. Весть о прибытии знаменитого епископа антиохийского, идущего на мученичество, облетела римскую общину христианскую. Вышли навстречу ему верующие — с радостью и со скорбью, с ликованием и с плачем. Радовались тому, что церковь обретёт нового мученика, нового свидетеля истины Христовой, но скорбели о том, что терят наставника мудрого, учителя благого. Наступил день двадцатый декабря. Римляне праздновали свой языческий праздник, день поклонения богам своим. И решил император устроить зрелище народу — выпустить на арену Колизея голодных львов, а им на растерзание отдать сего упрямого старца христианского. Вывели святого Игнатия на арену. Двадцать тысяч зрителей смотрели с трибун на одинокую фигуру старца в центре огромного амфитеатра. Солнце декабрьское светило холодным светом, песок арены был жёлт и чист. Тишина стояла такая, что слышен был каждый вздох, каждое движение в толпе. И тогда святой Игнатий, стоя посреди арены, воздел руки к небу и произнёс последнюю молитву свою — молитву благодарения. Благодарил он Бога за жизнь прожитую, за труды понесённые, за любовь дарованную. Благодарил за учителей своих — апостолов святых, которых сподобился видеть и слышать. Благодарил за паству свою антиохийскую, которую пас сорок лет. И благодарил — о чудо! — за смерть грядущую, за возможность умереть за Христа, за то, что сподобляется он стать пшеницей Божией, размолотой зубами зверей. **И было в ту минуту лицо его светло и радостно, как у жениха, идущего в дом невесты своей. Не было в нём страха — была радость несказанная. Не было трепета — было ликование духа. Ибо знал он, ведал несомненно, что через минуту, через мгновение, узрит Того, Кого возлюбила душа его, Кого искал он всю жизнь свою, ради Кого всё оставил и Которому ныне приносил последнюю жертву — самого себя.** Отворились врата, и выпущены были львы голодные, разъярённые. Ринулись они на святого. Но удивительно: по свидетельству очевидцев, даже звери как будто почувствовали нечто особенное — не терзали они его долго, не мучили, но быстро, почти мгновенно, совершили дело своё, оставив лишь кости да несколько частей тела. Верующие, бывшие среди зрителей, со слезами собрали останки учителя своего. Кровь его — как драгоценное миро — собирали платками. Кости — как святыню — хранили с благоговением. И похоронили тело его в Риме с великой честью, а потом, много лет спустя, перенесли с торжеством в Антиохию, в город, где служил он столько лет. Но не кончилась в тот день история святого Игнатия. Нет, она только началась. Ибо послания его, написанные на пути к смерти, стали достоянием всей Церкви. Читали их в Ефесе и Смирне, в Риме и Антиохии, переписывали, хранили как сокровище. И доныне, почти две тысячи лет спустя, читаются они христианами всего мира. И в этих посланиях — вся тайна христианского счастья, вся загадка мученичества. Как мог человек радоваться, идя на страшную смерть? Как мог он молить, умолять — не избавляйте меня от неё? Потому что видел он то, чего не видит мир. Знал он то, чего не знает мудрость человеческая. Любил Того, в Кого не веруют безбожники. Для мира — это было безумие. Старик в цепях, которого везут на казнь, пишет: «Я радуюсь!» Для язычников римских, для которых смерть была абсолютным концом, это казалось помешательством. Но для христиан, познавших воскресение Христово, это было высшая мудрость. Ибо Христос воскрес — и смерть стала не концом, но началом. Христос победил ад — и страшная казнь обратилась в триумфальное шествие к Жениху Небесному. Святой Игнатий шёл на смерть как на брачный пир. Львов он называл путём к Богу. Зубы звериные — жерновами, которые сделают из него чистый хлеб Христов. И в этом — не просто красивая метафора, но глубочайшее богословие. Ведь хлеб Евхаристический — это Тело Христово. И святой, соединяясь со Христом в смерти мученической, сам становится евхаристией, сам становится хлебом, который питает Церковь. Вот почему кровь мучеников — семя Церкви, как сказал Тертуллиан. Вот почему каждая мученическая смерть — не поражение, но победа. Вот почему Колизей, где убивали христиан тысячами, стал не памятником торжества Рима, но свидетельством победы Христовой. Империя пала. Императоры забыты. Рим языческий исчез. А святой Игнатий жив — живее всех живых, ибо он со Христом. И ещё одна великая мудрость сокрыта в его истории. Он научает нас тому, что истинная радость — не в благополучии земном, не в отсутствии страданий, но в близости ко Христу. Он показывает, что можно быть счастливым в цепях, радостным на пути к казни, ликующим посреди скорбей — если в сердце живёт любовь ко Христу. Мы же, христиане века нынешнего, сетуем на малейшие неудобства, унываем от незначительных скорбей, малодушничаем при первых трудностях. А вот святой Игнатий в оковах пишет: «Радуюсь!» Его везут на смерть, а он молит: «Не мешайте мне жить!» — называя смерть жизнью, а земное существование — приготовлением к ней. --- **Источник:** Послания священномученика Игнатия Богоносца; Евсевий Кесарийский, «Церковная история»; Мученические акты святого Игнатия Антиохийского **Ссылка:** https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/