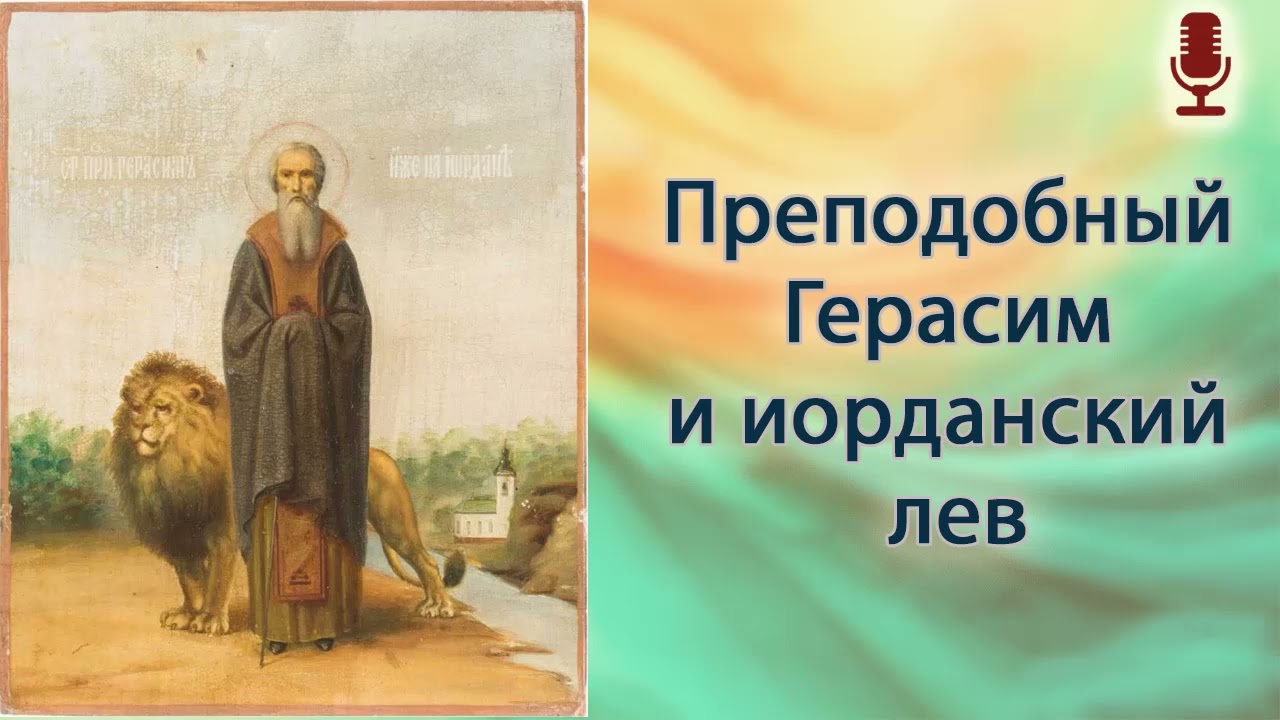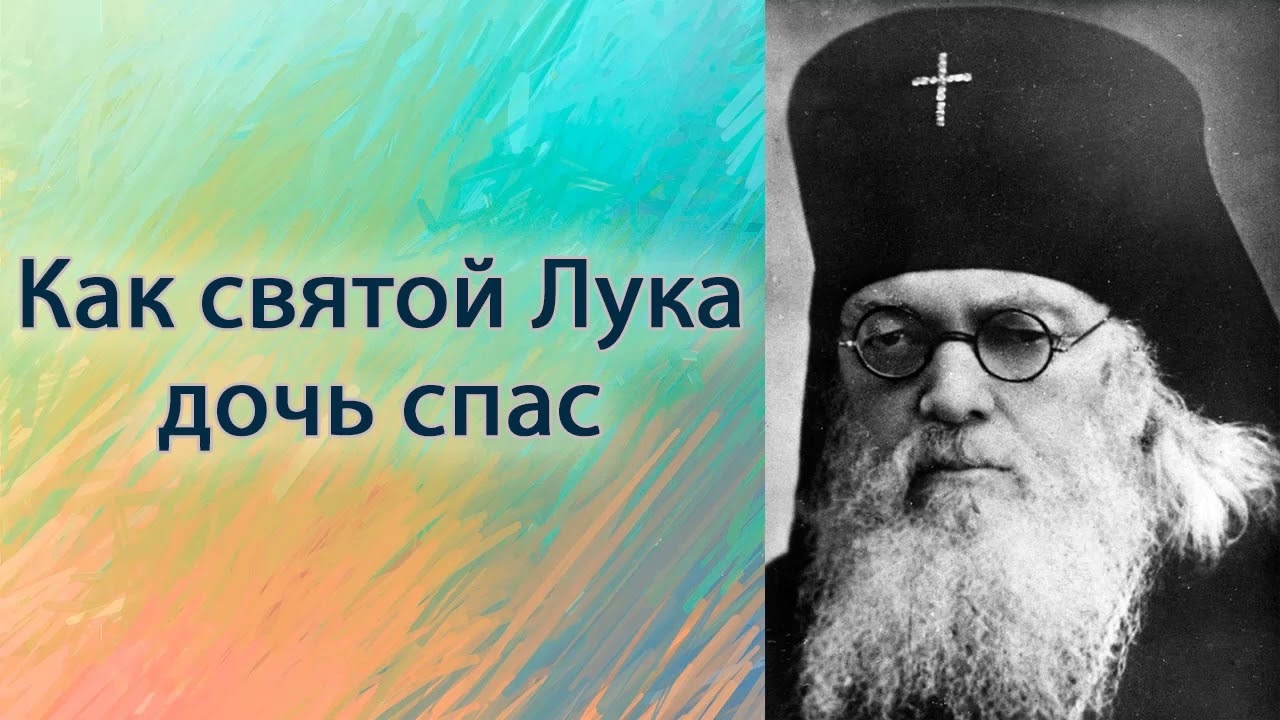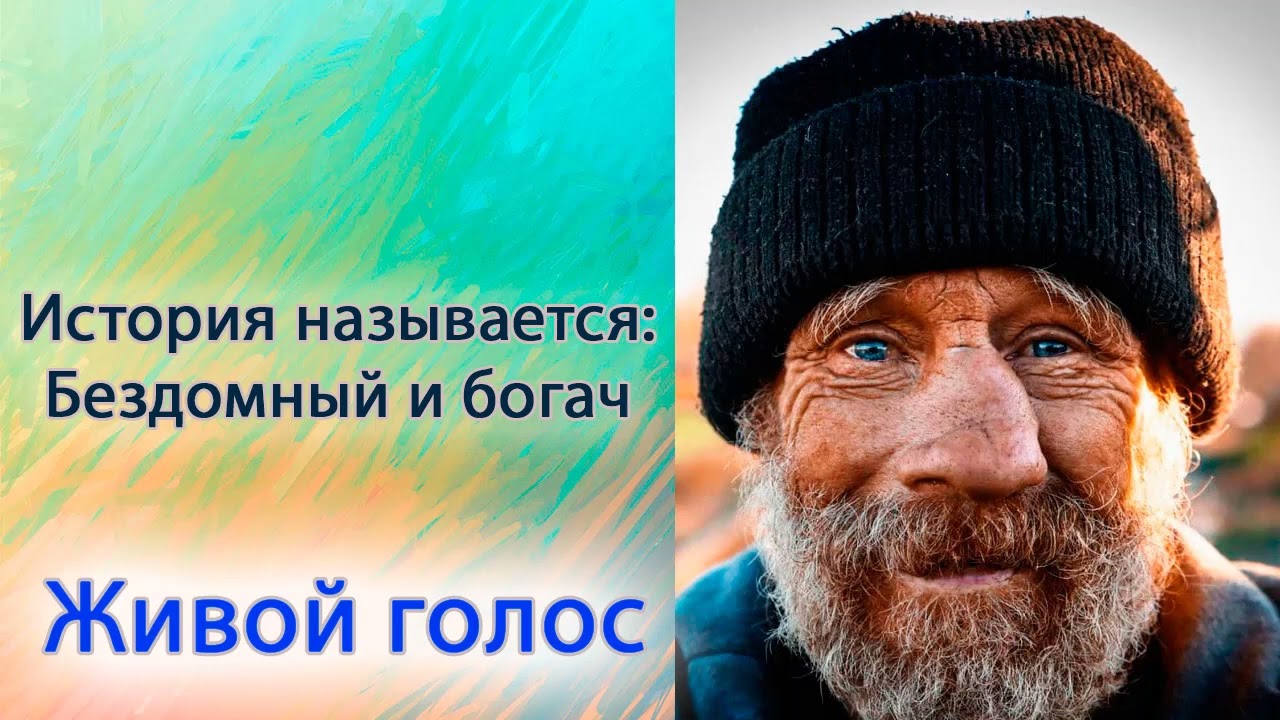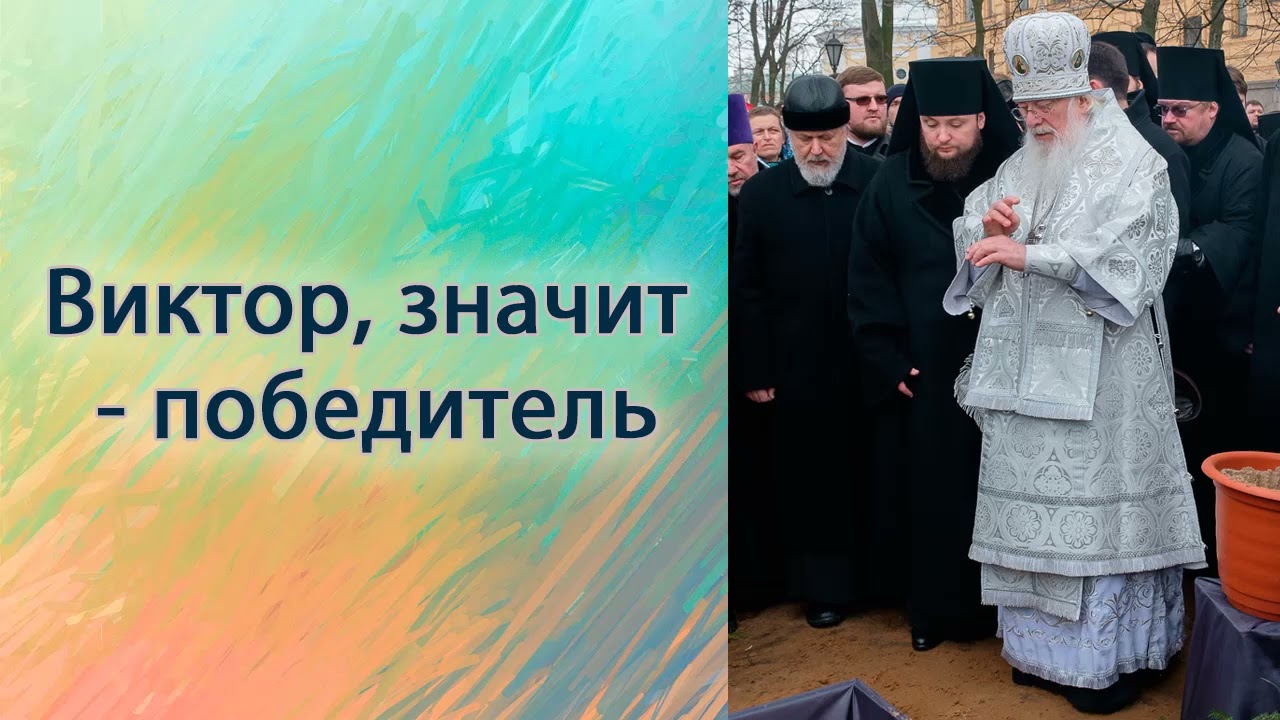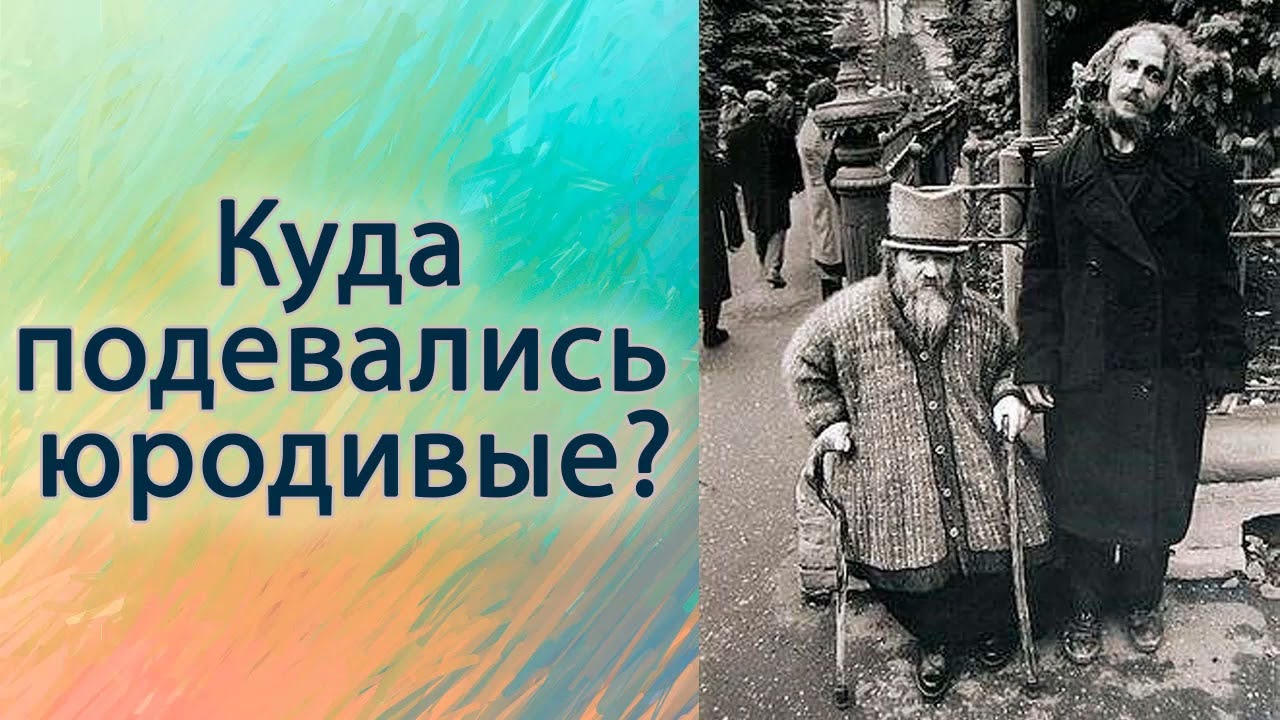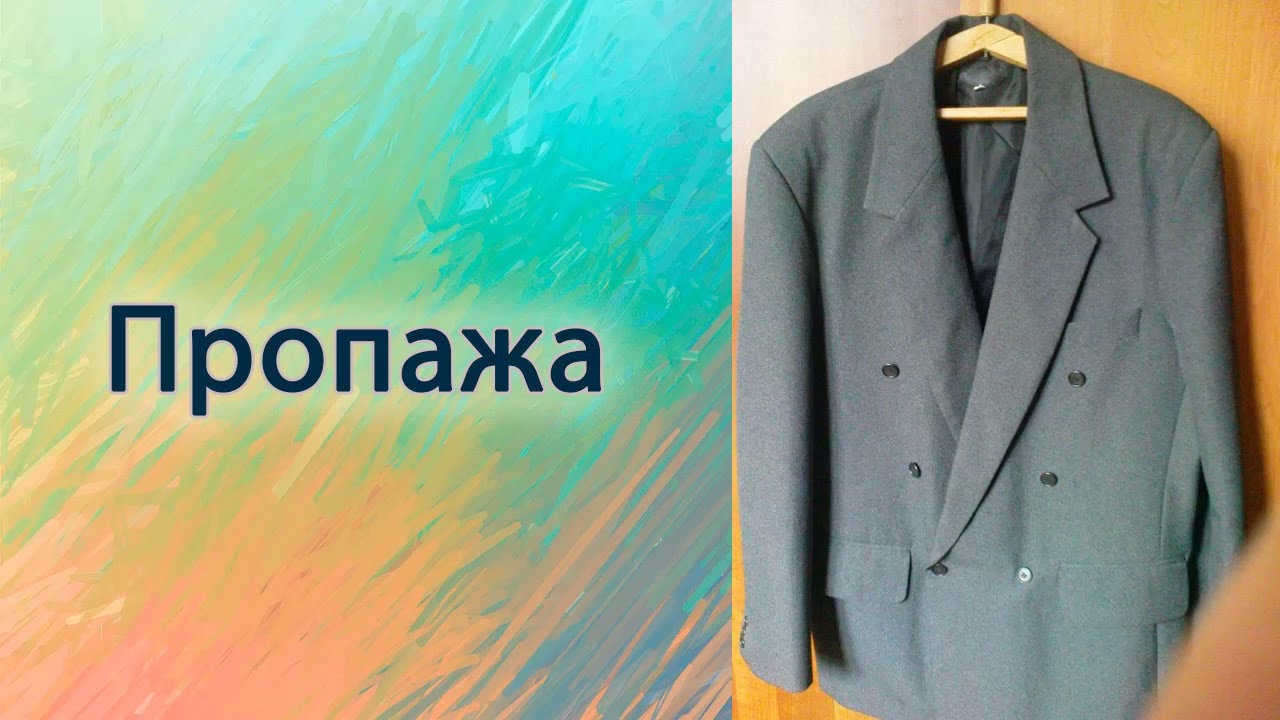Преподобный Герасим Иорданский и лев
В те далёкие времена, когда река Иордан ещё хранила память о Крещении Господнем, когда над её водами ещё витал дух евангельских событий, в этих местах поселился человек, искавший не земной славы, но близости к Богу. Звали его Герасим, и пришёл он из Ликии, оставив позади всё, что привязывает человека к миру — богатство, почести, семейные узы. Он искал пустыни не из любви к одиночеству, но из жажды встречи с Тем, Кто в пустыне явил Себя пророкам. Неподалёку от того места, где Иордан несёт свои воды к Мёртвому морю, преподобный Герасим основал небольшую обитель. Здесь, в этой выжженной солнцем земле, где каждый источник был на вес золота, а тень от пальмы — драгоценным даром, собирались те, кто, подобно ему, оставили мир ради Царства Небесного. Монастырь был невелик — несколько келий, небольшой храм, сад с финиковыми пальмами, колодец. Но в этой простоте жила особая благодать, та самая, которая притягивает к себе души, измученные суетой мира. Старец Герасим был строг к себе, но милостив к другим. Он знал меру в подвигах и учил братию не столько внешнему деланию, сколько внутреннему вниманию, трезвению ума, непрестанной памяти о Боге. Лицо его, иссушённое постом и палимое иорданским солнцем, светилось такой тихой радостью, что даже издалека люди узнавали: вот человек, который живёт не для себя, но для Бога и ближних. Однажды, в полуденный зной, когда даже ящерицы прятались в расщелины скал, старец шёл по берегу Иордана. Он любил эти часы уединения, когда можно было, не отвлекаясь ни на что, пребывать в молитве, размышлять о величии Божием, о том, как Господь ведёт каждую душу своими путями. Жара стояла невыносимая, воздух дрожал над песком, и казалось, что сама земля изнемогает под тяжестью солнца. Вдруг до слуха старца донёсся странный звук — не то стон, не то рык, приглушённый, полный боли. Герасим остановился, прислушался. Звук повторился, и на этот раз старец различил в нём не угрозу, но мольбу. Он пошёл на этот зов, раздвигая жёсткие заросли тростника, и вскоре увидел картину, которая поразила его. На песке лежал огромный лев. Зверь этот, царь пустыни, внушавший страх всем живущим, теперь был жалок и беспомощен. Его правая передняя лапа была распухшей, воспалённой, и даже издалека было видно, что причиняет зверю нестерпимую муку. Лев не бросился на приближавшегося человека, не зарычал грозно, но лишь поднял голову и посмотрел на старца взглядом, в котором читались и боль, и какая-то странная надежда. Герасим подошёл ближе. Он не знал страха — не потому, что был безрассуден, но потому, что давно уже вверил свою жизнь в руки Божии. "Всё в воле Божией, — думал он, — и если суждено мне окончить дни свои в пасти этого зверя, то да будет воля Господня. Но если Господь хочет, чтобы я помог этому созданию, то помогу." С этими мыслами он опустился на колени рядом со львом и осторожно взял больную лапу в свои руки. Лев не сопротивлялся. Он словно понимал, что старец хочет помочь, и лежал смирно, лишь изредка постанывая от боли. Герасим внимательно осмотрел лапу и вскоре обнаружил причину страдания: глубоко в плоти засела длинная острая заноза, вокруг которой образовался нарыв. Рана гноилась, воспалялась, и каждое движение причиняло зверю невыносимую боль. Старец вернулся в монастырь и принёс с собой всё необходимое для врачевания. Он размягчил рану тёплой водой, аккуратно извлёк занозу, промыл воспалённое место, наложил повязку из чистой ткани с целебными травами. Всё это время лев лежал неподвижно, словно понимая, что ему делают добро. А когда всё было закончено, зверь поднялся, осторожно ступил на вылеченную лапу и... не ушёл. Он пошёл за старцем. Герасим вернулся в монастырь, а лев — за ним. Братия, увидев такое, пришла в ужас. Что это? Искушение? Диавольское наваждение? Некоторые схватились за палки, готовые защищаться. Но старец поднял руку, успокаивая их. — Не бойтесь, братия, — сказал он тихо. — Это творение Божие пришло к нам не для того, чтобы вредить, но чтобы служить. Господь привёл его сюда не случайно. Примем же его как дар Божий. И действительно, лев словно понимал человеческую речь. Он лёг у ног старца, положил морду на лапы и закрыл глаза, как верный пёс. С того дня он не покидал обитель. Братия вскоре привыкла к нему, а старец Герасим дал зверю имя — Иордан, в честь великой реки, у которой они встретились. Лев стал помощником в монастырских трудах. У обители был осёл, который носил воду из Иордана для братии и для полива сада. Каждый день осёл ходил к реке, и теперь лев сопровождал его, охранял от разбойников и диких зверей. Это было удивительное зрелище — грозный хищник, идущий рядом со смирным ослом, словно верный страж. Проходили месяцы и годы. Лев привязался к старцу так, что не отходил от него ни на шаг. Когда Герасим молился в храме, лев лежал у порога. Когда старец трудился в саду, лев возлежал в тени неподалёку. Когда Герасим уходил в пустыню на уединённую молитву, лев следовал за ним, сохраняя почтительное расстояние. Братия дивились этому. В этом простом, казалось бы, случае они видели глубокий смысл. Вот она, та самая гармония между человеком и творением, которая была в раю до грехопадения! Вот оно, то состояние, когда человек, живущий по воле Божией, примиряет с собой даже диких зверей! Ведь сказано в Писании: "Праведник милует души скотов своих", и ещё: "Волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком". То, что казалось невозможным в падшем мире, становилось явью рядом с человеком святой жизни. Но как часто бывает в этом мире, радость сменяется скорбью, а тихое счастье — испытанием. Однажды, когда лев, как обычно, сопровождал осла к реке, случилось несчастье. Проходил мимо караван купцов. Увидев осла без присмотра (лев на мгновение отвлёкся), они угнали его с собой. Когда лев вернулся к тому месту, где оставил осла, того уже не было. Зверь долго искал своего друга, рыскал по окрестностям, ревел, но всё было напрасно. Наконец, понурый и печальный, он вернулся в монастырь один. Братия решили, что лев съел осла — такова, мол, природа хищника, сколько ни корми, всё равно в лес смотрит. Старец Герасим, хотя и не верил в это сердцем, решил не спорить с братией. — Если ты съел осла, который был твоим другом, — сказал он льву строго, — то теперь должен исполнять его работу. И вот началось для льва время настоящего послушания. Каждый день он ходил к Иордану, таская на спине тяжёлые бурдюки с водой. Работа была тяжёлой, унизительной для царя зверей, но лев не роптал. Он нёс своё бремя смиренно, словно понимая, что это епитимья за мнимое преступление. Проходили недели. Братия привыкли видеть льва, сгибающегося под тяжестью воды. Некоторые жалели его, но никто не смел перечить решению старца. А лев день за днём исполнял своё послушание, и в глазах его светилась не злоба, но кроткое терпение. Но вот однажды, когда лев в очередной раз шёл к реке, он издалека увидел караван. Что-то в этих людях, в этих верблюдах показалось ему знакомым. Он подошёл ближе — и узнал! Вот он, его друг, тот самый осёл, которого он потерял! Осёл был навьючен поклажей и шёл в караване. Лев зарычал так грозно, что купцы в ужасе бросились врассыпную, оставив весь караван. Он не тронул людей, не причинил им вреда, но взял осла за повод и повёл его домой, в монастырь, а за ними послушно следовали верблюды с грузом. Когда старец Герасим увидел эту процессию — льва, торжественно ведущего осла, а за ними цепочку верблюдов, — он всё понял. Он обнял льва, попросил у него прощения за несправедливое обвинение, а купцам, которые вскоре явились, устыжённые, вернул и товар, и верблюдов, приняв лишь малую часть в дар монастырю. С того дня лев стал ещё более любим в обители. Братия видели в нём не просто зверя, но образ верности, терпения и незлобия. Некоторые даже говорили: "Вот животное, а каким христианским добродетелям нас учит!" Шли годы. Старец Герасим приближался к концу своего земного пути. Тело его, изнурённое постом и трудами, слабело. Братия видели, что праведник готовится к переходу в вечность. Он благословлял их, давал последние наставления, но не печалился о своей близкой кончине — напротив, лицо его светилось радостью предстоящей встречи с Господом. Лев чувствовал это. Звери часто бывают чутки к приближению смерти. Он не отходил от старца, лежал у его постели, смотрел на него с невыразимой тоской. Когда Герасим преставился ко Господу, когда душа его, чистая и светлая, отлетела к престолу Божию, лев словно окаменел. Он не ел, не пил, только лежал, положив морду на могилу своего благодетеля. Братия пытались его накормить, отвести от могилы, но зверь не двигался. Он тосковал так, как может тосковать только истинно любящее сердце. И через несколько дней, так и не притронувшись ни к пище, ни к воде, лев умер на могиле старца Герасима. Братия похоронили его рядом с преподобным. В этой простой истории — история верности, которая сильнее смерти. История о том, что любовь живёт не только в сердцах человеческих, но дана, пусть и в меньшей мере, всей твари Божией. История о том, что святость человека примиряет его не только с Богом, но и со всем творением, возвращает ту гармонию, которая была утрачена в грехопадении. И разве это не поразительно? Зверь, созданный для того, чтобы внушать страх, становится образом верности и любви. А человек, отрёкшийся от мира, становится другом для всех — и для людей, и для животных, потому что в нём живёт Христос, Который есть любовь. Так передавалась эта история из поколения в поколение. Паломники, приходившие к Иордану, слушали её от монахов, дивились и уходили, неся в сердцах простую истину: милосердие не знает границ, любовь не умирает, и даже самое дикое сердце может быть укрощено добротой. ________________________________________ Источник: Житие преподобного Герасима Иорданского, "Луг Духовный" блаженного Иоанна Мосха Ссылка: https://azbyka.ru/days/sv-gerasim-iordanskij День памяти: 4 (17) марта