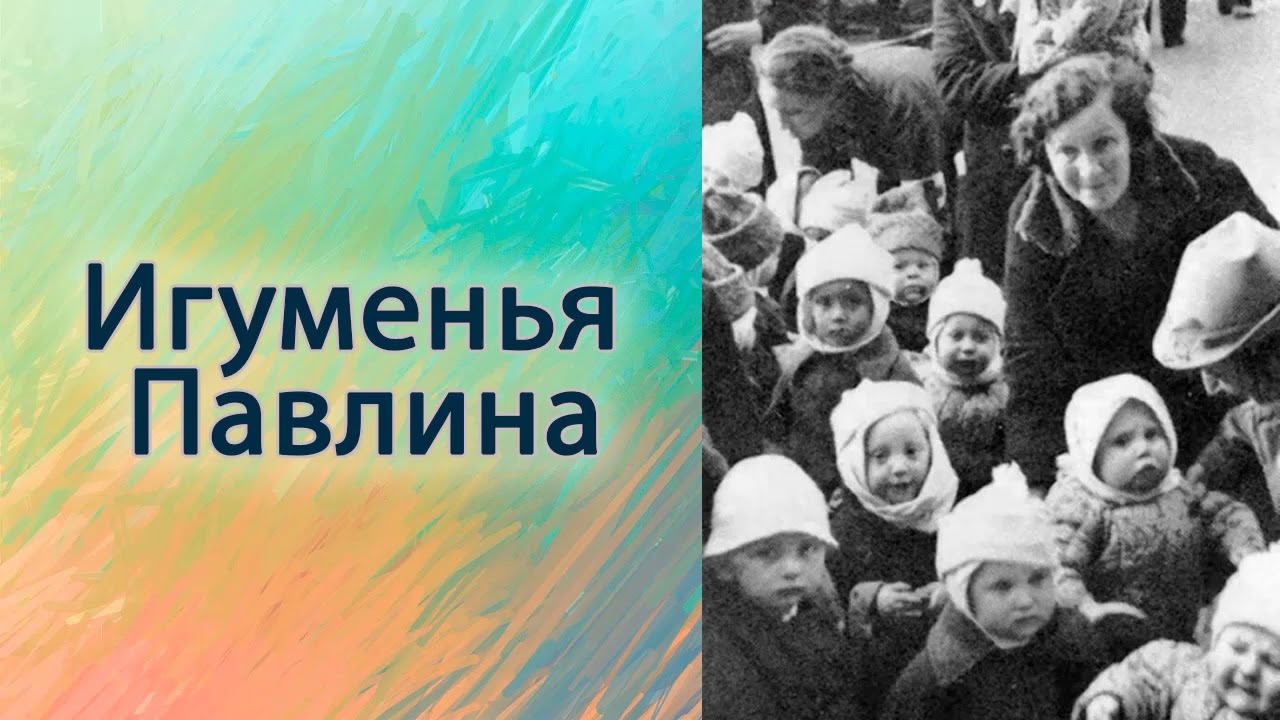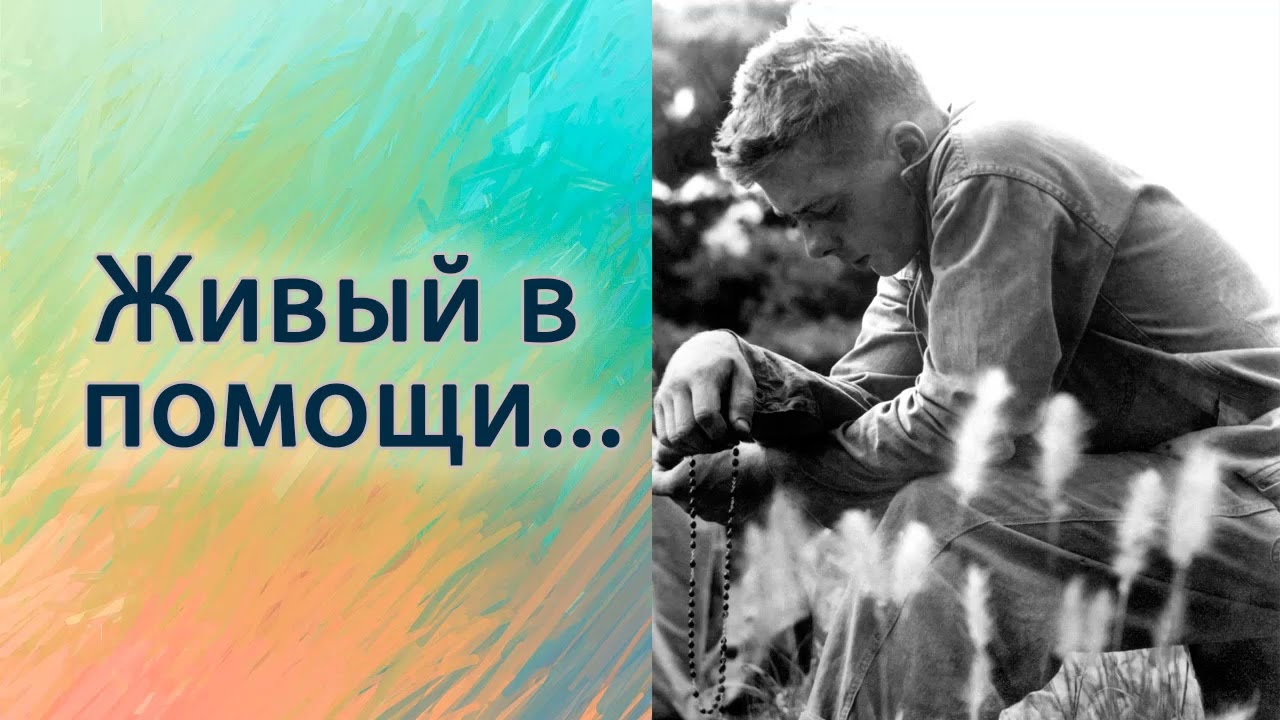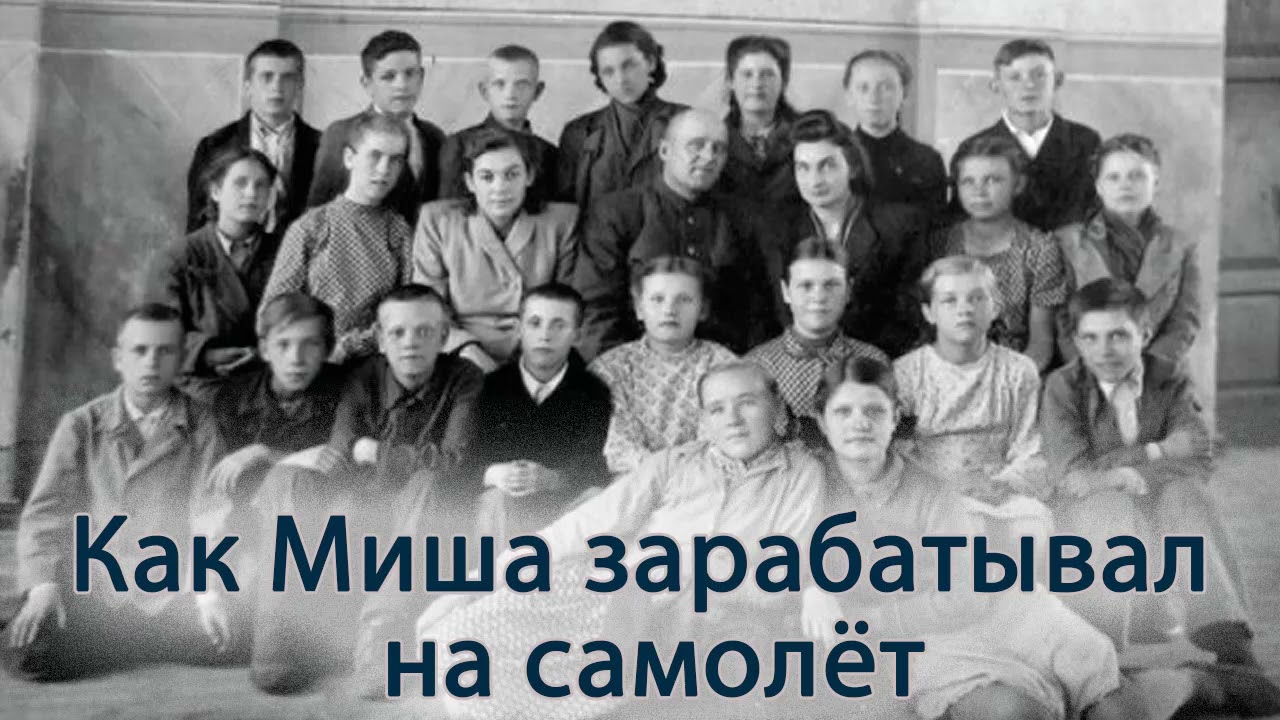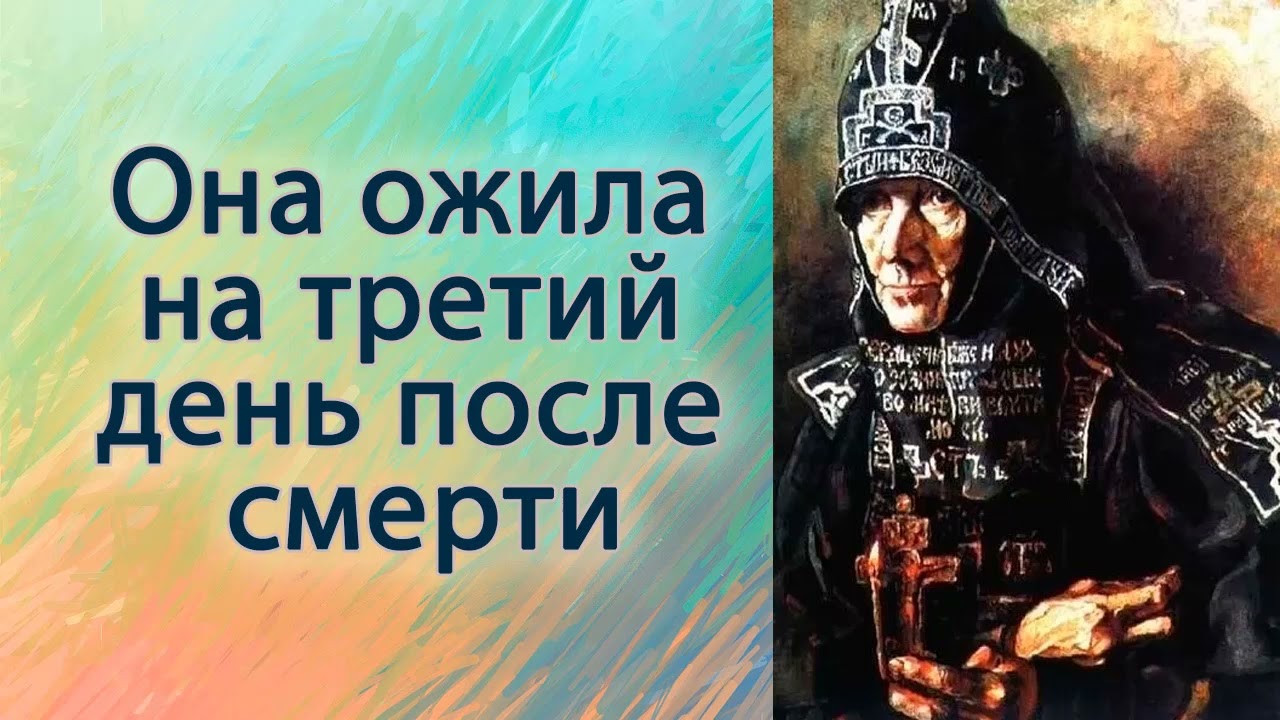Она увидела свое тело со стороны — лежащим на операционном столе. Вокруг суетились медики. К груди прижали похожий на утюг прибор.
— Разряд! — крикнул профессор Псахес. Тело дернулось. Но она не почувствовала боли.
Клиническая смерть — Разряд!
— Сердце не реагирует!
— Разряд! Еще! Еще!
Врачи пытались «завести» ее сердце почти полчаса. Она увидела, как молодой ассистент положил руку на плечо профессору:
— Борис Исаакович, остановитесь. Пациентка мертва.
Профессор стащил с рук перчатки, снял маску. Она увидела его несчастное лицо — все в капельках пота.
— Как жаль! — сказал Борис Исаакович. — Такая операция, шесть часов трудились…
— Я здесь, доктор! Я живая! — закричала она. Но врачи не слышали ее голоса. Она попыталась схватить Псахеса за халат, но ткань даже не шевельнулась.
Профессор ушел. А она стояла возле операционного стола и смотрела, как завороженная, на свое тело. Санитарки переложили его на каталку, накрыли простыней.
Она услышала, как они говорят:
— Опять морока: приезжая преставилась, с Якутии…
— Родня заберет.
— Да нет у нее никакой родни, только сын-малолетка.
Она шла рядом с каталкой. И кричала:
— Я не умерла! Я не умерла! Но никто не слышал ее слышит...
Монахиня Антония вспоминает свою смерть с трепетом:
— Господь милостив! Он любит всех нас, даже распоследнего грешника…
Антония постоянно перебирает четки. Ее тонкие пальцы дрожат. Между большим и указательным видна старая татуировка — едва заметная буква «А».
Матушка Антония перехватывает мой взгляд. Я смущаюсь, словно подсмотрел что-то запретное.
— Это память о тюремном прошлом, — говорит монахиня. — Первая буква моего имени. По паспорту я Ангелина. В юности страсть какая бедовая была…
— Расскажите!
Матушка Антония испытующе глядит на меня. Такое ощущение, что она видит меня насквозь. Минута кажется вечностью. Вдруг замолчит, вдруг откажет?
Наша встреча не была случайной. В Печоры Псковской области, где вблизи знаменитого Свято-Успенского монастыря живет 73-летняя матушка Антония, я приехал, получив весточку от знакомых верующих: «У нас чудесная монахиня есть. На том свете побывала».
Матушка Антония, как оказалось, в недавнем прошлом была строительницей и настоятельницей женского монастыря в Вятских Полянах Кировской области. После третьего инфаркта по слабости здоровья была отправлена на покой. С журналистом «Жизни» согласилась встретиться только после того, как получила рекомендации от духовных лиц.
Мне кажется, что она мою просьбу отсылает куда-то наверх. И получает ответ. У меня замирает дыхание.
Наконец она произносит:
— Расскажу. Не зная моего прошлого, не понять того, что случилось со мною после смерти. Что уж было — то было…
Матушка Антония совершает крестное знамение. Еле слышно, одними губами, шепчет молитву. Чувствуется, что возвращение в прошлое требует от нее немалых душевных и физических усилий, словно пловцу, которому предстоит нырнуть в бурлящий водоворот.
— Родилась я в Чистополе. Это маленький городок на Каме в Татарии. Папа, Василий Рукавишников, ушел на фронт добровольцем. Погиб на Брянщине, в партизанах. Мама, Екатерина, вновь вышла замуж — за старика, он лет на тридцать был старше ее. Я до того возненавидела его, что убежала из дома. Попала в детдом в Казани. Сказала, что сирота. В конце войны обучили меня вместе с подругами на мотористок и отправили на шахту в Свердловскую область. В первый же день мы бунт устроили — из-за приставаний. Мы малолетки, а шахтеры там ушлые. В первый же день облапали… Ну я и подбила подруг в Москву бежать, к товарищу Ворошилову. Жаловаться. Добирались на подножках вагонов, отчаянные были, смелые. Заночевали в парке Горького, в кустах, прижимаясь друг к другу…
Ворошилов
— Утром я, как самая маленькая, на вид мне давали лет двенадцать, пошла в разведку. Выбрала на лавочке дяденьку посолиднее. Подошла, спросила, как Ворошилова найти. Дяденька ответил, что запись на прием ведется в приемной Верховного Совета на Моховой улице. Нашли мы эту приемную. Явились туда всей гурьбой.
«Куда?» — спросил нас милиционер у двери.
— «К Ворошилову!»
— «Зачем?»
— «Это мы только ему скажем».
Милиционер отвел нас в какой-то кабинет. За столом толстый начальник сидит. Глянул на нас строго: «Рассказывайте!». А я как заору: «Бежим, девчонки! Это не Ворошилов!». Такой шум мы устроили, что все сбежались. И тут вижу, как Ворошилов входит. Я его по фотографиям знала. Увел нас с собой. Велел принести бутербродов, чаю. Выслушал. И спросил:
«Учиться хотите?»
— «Да!»
— «Скажите на кого, вам выпишут направление».
Я выбрала геологический техникум в Кемеровской области… А там беда вышла — с ворьем связалась. По глупости и от голодухи. Нравилось мне, как они живут: рисково, красиво. Татуировку сделала, чтобы все видели, что я фартовая. Только погулять долго не получилось: нашу шайку поймали… В тюрьме мне не понравилось.
— Когда вышла на свободу, дала клятву себе: никогда за решетку не попадать. Вышла замуж, уехала в Якутию — в поселок Нижний Куранах. Работала там в «Якутзолоте». Орден даже заслужила — Трудового Красного Знамени… Сначала все в семье ладно было, сыночка родила, Сашеньку. Потом муж пить начал. И бил из-за ревности. Потом бросил. Горевать не стала — так с ним намучилась! А тут еще болезнь навалилась. Сначала значения не придала, а потом, как уж прижало (несколько раз сознание средь бела дня теряла), к врачам пошла. Обследовали и нашли опухоль в голове. Отправили срочно в Красноярск, в клинику мединститута. Я плачу:
"Спасите! У меня сынок один, еще школьник — круглым сиротой останется!».
Профессор Псахес взялся прооперировать… Знала, что операция опасная, боялась страшно!
Тогда и про Бога вспомнила. Прежде такой атеисткой была, богохульницей, а тут на ум молитва пришла. Вернее, стишок духовный, которому меня однажды в детстве одна женщина обучила.
«Сон Богородицы» называется. Про Иисуса, все Его страдания. Почти все Евангелие в этих стихах пересказано… Повезли меня на операцию, а я дрожу и «Сон Богородицы» шепчу.
Дали наркоз, сверлить череп стали… Я боли не чувствую, но все слышу — как с головой моей возятся. Долго оперировали. Потом, как сквозь сон, услышала, как меня по щекам хлопают.
«Все, — говорят, — просыпайся!»
Я очнулась от наркоза, дернулась, хотела встать, подняться, тут сердце и остановилось. А меня словно что-то наружу из тела вытолкнуло — из себя, будто из платья, выскользнула"
…Каталку с безжизненным телом отвезли в холодную комнату без окон. Ангелина стояла рядом. Видела, как ее труп переложили на железный топчан. Как стащили с ног бахилы, которые были на ней во время операции. Как привязали клеенчатую бирку. И закрыли дверь.
В комнате стало темно. Ангелина удивилась: она видела!
— Справа от моего тела лежала голая женщина с наспех зашитым разрезом на животе, — вспоминает монахиня. — Я поразилась: прежде никогда не знала ее. Но почувствовала, что она мне почти родная. И что я знаю, от чего она умерла, — случился заворот кишок. Мне стало страшно в мертвецкой. Бросилась к двери — и прошла сквозь нее! Вышла на улицу — и остолбенела. Трава, солнце — все исчезло! Бегу вперед, а мне дороги нет. Как привязанная к больнице. Вернулась обратно. Врачей, больных в палатах и коридорах вижу. А они не замечают меня. Глупая мысль в голову пришла: «Я теперь человек-невидимка!». Смешно самой стало. Стала хохотать, а меня никто не слышит. Попробовала сквозь стену пройти — получилось! Вернулась в мертвецкую. Опять увидела свое тело. Обняла себя, стала тормошить, плакать. А тело не шевелится. И я зарыдала, как никогда в жизни — ни раньше, ни потом — не рыдала…
Матушка Антония рассказывает:
— Вдруг рядом со мной, как из воздуха, появились фигуры. Я их для себя назвала — воины. В одежде, как у святого Георгия Победоносца на иконах. Почему-то я знала, что они пришли за мной. Стала отбиваться. Кричу: «Не трогайте, фашисты!» Они властно взяли меня под руки. И внутри меня голос прозвучал: «Сейчас узнаешь, куда попадешь!» Меня закружило, во мрак окунуло. И такое нахлынуло — страсть! Боль и тоска невозможная. Я ору, ругаюсь всяко, а мне все больнее. Про эти мучения рассказать не могу — слов таких просто нет… И тут на правое ухо вроде как кто тихонечко шепчет: «Раба Божия Ангелина, перестань ругаться — тебя меньше мучить станут…» Я затихла. И за спиной словно крылья почувствовала. Полетела куда-то. Вижу: слабенький огонек впереди. Огонечек тоже летит, и я боюсь отстать от него. И чувствую, что справа от меня, как пчелка малая, тоже кто-то летит. Глянула вниз, а там множество мужчин с серыми лицами. Руки вверх тянут, и я их голоса слышу: «Помолись за нас!» А я перед тем, как умереть, неверующая была. В детстве окрестили, потом в храм не ходила. Выросла в детдоме, тогда нас всех атеистами воспитывали. Только перед операцией про Бога и вспомнила… Той «пчелки» справа не вижу, но чувствую ее. И знаю, что она не злая. Спрашиваю ее про людей: «Кто это и что это?» И голосок тот же, ласковый, отвечает: «Это тартарары. Твое место там…» Я поняла, что это и есть ад.
— Вдруг я почувствовала себя как на Земле. Но все ярче, красивее, цветет, как весной. И аромат чудный, все благоухает. Меня еще поразило: одновременно на деревьях и цветы, и плоды — ведь так не бывает. Увидела стол массивный, резной, а за ним трое мужчин с одинаковыми очень красивыми лицами, как на иконе «Троица». А вокруг много-много людей. Я стою и не знаю, что делать. Подлетели ко мне те воины, которые в морг приходили, поставили меня на колени. Я наклонилась лицом до самой земли, но воины меня подняли и жестами показали, что так не надо, а нужно, чтобы плечи были прямо, а голову склонить на грудь… И разговор начался с теми, что за столом сидели. Меня поразило: они знали все обо мне, все мои мысли. И их слова словно сами возникали во мне: «Бедная душа, что же ты столько грехов набрала!» А мне было ужасно стыдно: вдруг ясно вспомнился каждый мой плохой поступок, каждая дурная мысль. Даже те, которые я давно забыла. И мне вдруг себя жалко стало. Поняла, что не так жила, но не обвиняла никого — сама свою душу сгубила.
— Внезапно я поняла, как надо называть Того, Кто в середине сидит, сказала: «Господи!» Он отозвался — в душе сразу такое райское блаженство наступило. Господь Спросил: «Хочешь на Землю?»
— «Да, Господи!» — «А посмотри вокруг, как здесь хорошо!» Он руки вверх воздел. Я посмотрела вокруг — и ну все как засияло, так было необычайно красиво! А внутри меня вдруг случилось то, чего я не испытывала никогда: в сердце вошли безконечная любовь, радость, счастье — все разом. И я сказала: «Прости, Господи, я недостойна!» И тут пришла мысль о сыне, и я сказала: «Господи, у меня сын есть Сашенька, он без меня пропадет! Сама сирота, от тюрьмы не убереглась. Хочу, чтобы он не пропал!» Господь отвечает: «Ты вернешься, но исправь свою жизнь!»
— «Но я не знаю как!» — «Узнаешь. На твоем пути попадутся люди, они подскажут! Молись!» — «Но как?» — «Сердцем и мыслью!».
Будущее
— И тут мне будущее открыли: «Выйдешь вновь замуж». — «Кто же меня возьмет такую?» — «Он сам тебя найдет». — «Да не нужен мне муж, я с прежним пьяницей на всю жизнь намучилась!»
— «Новый будет добрый человек, но тоже не без греха. С Севера не уезжай, пока сына в армию не проводишь. Потом встретишь его, женишь. А затем суждено тебе брата найти». — «Неужто он жив? Я с войны о Николае вестей не имею!» — «Инвалид он, на коляске ездит. Найдешь его в Татарии и сама туда с мужем переедешь. Ты брату будешь очень нужна, будешь ухаживать за ним и сама похоронишь его». — «А с сыном все хорошо будет?» — «За него не безпокойся. Он, как станет взрослым, от тебя откажется. Но ты не унывай. Помни Господа и расскажи людям о том, что видела здесь! И помни — ты обещала исправить свою жизнь!»
Возвращение
— Очнулась я уже в своем теле. Почувствовала, что мне очень холодно: я замерзла сильно. Взмолилась: «Мне холодно!» И голос слышу в правом ухе: «Потерпи, сейчас за тобой придут!» И точно: открывается дверь, входят две женщины с тележкой — хотели анатомировать меня везти. Подошли ко мне, а я простыню сбросила. Они — в крик и бежать! Профессор Псахес, который меня оперировал, с медиками прибегает. Говорит: «Не должно быть, что жива». Светит какой-то лампочкой в зрачок. А я все вижу, чувствую, а окоченела так, что сказать ничего не могу, только мигнула глазами. Меня привезли в палату, обложили грелками, закутали в одеяла. Когда согрелась, рассказала о том, что случилось со мной. Борис Исаакович Псахес внимательно выслушал. Сказал, что после моей смерти прошло три дня.
— Еще в больнице, — рассказывает матушка Антония, — я написала о том, что со мной произошло, в журнал «Наука и религия». Не знаю, напечатали ли. Профессор Псахес назвал мой случай уникальным. Через три месяца выписали.
Отчаяние
— Уехала я обратно в Якутию, — рассказывает матушка Антония. — Опять в «Якутзолото» устроилась, я там на хорошем счету была. Работаю, сына ращу. В церковь ходить стала, молиться. Все случилось так, как мне на том свете предсказано было. Замуж вышла, потом сына женила. И старшего брата Николая, с войны потерянного, нашла — в Татарии. Он одинокий был, инвалид на коляске, уже сильно больной. Мы переехали в Нижнекамск, поближе к брату. Квартиру нам с мужем там дали, как северянам. Я к тому времени уже на пенсии была. Ухаживала за братом до самой его смерти. Похоронила, оплакала.
А потом и сама заболела. В боку закололо, во рту кисло стало. Терпела долго. По сравнению с адскими муками все земные болячки — как укол булавкой. Уговорили меня сын с мужем в больницу пойти. Из поликлиники отправили на обследование в Казань. А там нашли рак печени. Сказали, что с операцией опоздала, что метастазы пошли. И такая тоска на меня напала — не передать. Грешная мысль пришла: «Кому я нужна такая, всем обуза!».
Пошла на мост — топиться. А перед тем как в воду броситься, с небом решила попрощаться. Подняла глаза — и увидела кресты и купола. Храм. Думаю: помолюсь в последний раз перед тем, как утопиться. Пришла в собор. Стою перед иконой Богородицы и плачу. Тут женщина, что в храме убиралась, заметила мои слезы, подошла, спросила, что со мной случилось. Рассказала про рак, про то, что муж начал пить, что никому я не нужна, что у сына своя семья и я ему обуза. Что хотела руки на себя наложить. А женщина мне и говорит: «Тебе надо сейчас же ехать в Набережные Челны. Туда приехал чудесный батюшка, архимандрит Кирилл из Риги. Он все на свете лечит!».
Архимандрит
Матушка Антония показывает фотокарточку священника, что висит у нее в келье. На снимке — благообразный, осанистый батюшка с двумя крестами на облачении.
— Это мой духовный отец, — ласково говорит монахиня. — Архимандрит Кирилл (Бородин). Чудотворец и праведник. При советской власти в тюрьме за веру страдал. Он сам врач по образованию, многих людей исцелил. В 1998 году отошел ко Господу. Мне отец Кирилл не только жизнь спас — душу вымолил. Приехала я тогда в Набережные Челны по указанному мне в церкви адресу, даже домой в Нижнекамск заезжать не стала. Очередь стоит в квартиру, в которой отец Кирилл принимает, длиннющая. Думаю, всю ночь стоять придется. Тут дверь распахивается, выходит священник и меня рукой манит:
«Матушка, иди сюда!» Завел к себе. Ладонь на голову положил:
«Ах, какая ты болящая!» И вдруг в меня радость вошла — как тогда, на том свете перед Господом… Хотела отцу Кириллу о себе рассказать, про то, что на том свете пережила, но он меня остановил:
«Я все про тебя знаю».
1 просмотров
•
7 месяцев назад
За пределами логики