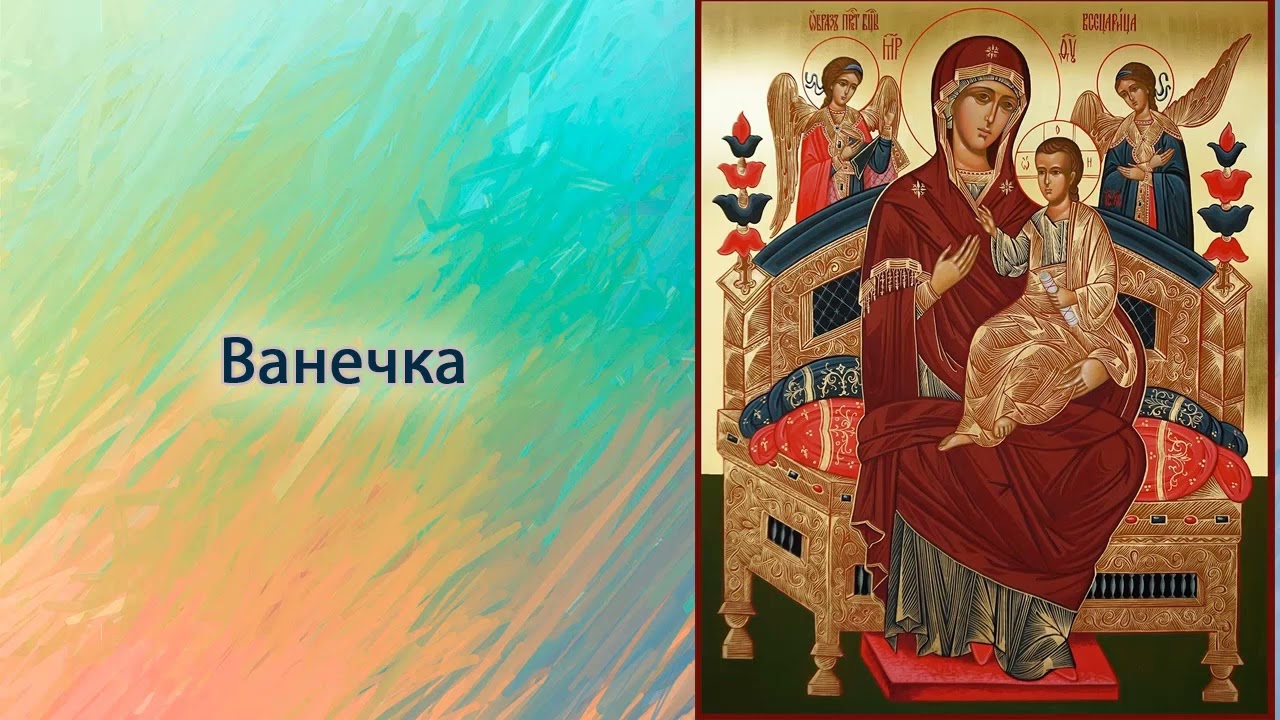Слава Богу за всё
В начале пятого столетия от Рождества Христова, когда великая Римская империя, некогда казавшаяся столь же вечной и незыблемой, как само небо над нею, уже содрогалась от ударов судьбы и трещала по швам, — в эти грозные и смутные времена жил человек, чьё слово гремело подобно грому над Константинополем, а имя его было на устах у всех — от последнего нищего до самого императора. Звали его Иоанн, а за дивный дар проповеди народ прозвал его Златоустом. Был он архиепископом столицы — первым пастырем величайшего города на земле. Константинополь в те годы блистал великолепием: мраморные колонны дворцов подпирали небо, золотые купола храмов горели на солнце, а по широким улицам, вымощенным камнем, текла пёстрая река — сенаторы в пурпурных тогах, купцы со всех концов света, монахи в чёрных рясах, нищие и вельможи, свободные и рабы. И когда Иоанн восходил на амвон, вся эта река замирала. Тысячи людей стекались в храм. Торговцы закрывали свои лавки, ремесленники откладывали молоты и резцы, знатные дамы в шёлковых одеждах сидели рядом с простолюдинками в грубых платках — и все слушали, затаив дыхание, потому что слово этого человека проникало в самую глубину сердца, туда, где человек остаётся наедине с собой и с Богом. Но вот в чём состоит вечная загадка мира сего: те, кто говорят правду, редко бывают любимы властью. Златоуст обличал роскошь двора, призывал богатых делиться с бедными, не молчал, когда видел несправедливость, — и за это навлёк на себя гнев императрицы Евдоксии. Составился собор из завистников и недоброжелателей, и в четыреста четвёртом году от Рождества Христова архиепископа Константинопольского, первого проповедника христианского мира, низложили и отправили в ссылку. Ему было пятьдесят семь лет. Здоровье его, подорванное многолетними аскетическими подвигами юности, когда он жил отшельником в сирийских горах, давно уже оставляло желать лучшего. Желудок его был слаб, тело измождено. И вот этого больного, измученного человека, оторвав от паствы, от друзей, от всего, что составляло смысл его земного служения, погнали через всю Малую Азию в глухое захолустье — в городок Кукуз, затерянный в горах Малой Армении. Путь был долог и мучителен. Стража, приставленная к нему, не знала жалости. Святитель впоследствии писал об этом переходе слова, от которых и сегодня сжимается сердце: «Почти тридцать дней, а то и больше, я боролся с жесточайшими лихорадками, и в таком состоянии шёл этим длинным и трудным путём, будучи осаждаем и другими тяжкими болезнями. Трудность этого путешествия свела нас к самым вратам смерти». К самым вратам смерти. Казалось бы, что может сказать человек, доведённый до такого предела? Какие слова способен родить ум, затуманенный лихорадкой, в теле, едва несущем самоё себя по пыльным горным дорогам? Казалось бы — ропот, отчаяние, горечь. Ведь он не совершил никакого преступления. Его единственной виной была правда. И вот здесь открывается нечто поразительное. Нечто такое, перед чем замолкает всякий скепсис и всякое маловерие. Прибыв наконец в Кукуз — жалкий городишко, стиснутый горами, где зимой выли ветры, а летом палило немилосердное солнце, где не было ни достойных врачей, ни бань, ни привычных удобств, где дикие разбойники-исавряне то и дело грозили набегами, — прибыв в это место и едва оправившись от дороги, Златоуст берётся за перо. В далёком Константинополе страдает его верная духовная дочь — диаконисса Олимпиада, женщина знатного рода, одна из самых замечательных подвижниц своего времени. Она отдала всё своё огромное состояние Церкви и бедным — ни город, ни деревня, ни пустыни, ни остров, ни отдалённые страны не были лишены её щедрот. После изгнания святителя её оклеветали, таскали по судам, обвиняли вместе с другими его сторонниками в поджоге храма Святой Софии. Та, что кормила тысячи, сама осталась без помощи. Олимпиада впала в тяжелейшее уныние — и не просто уныние души, но уныние, перешедшее в болезнь тела, тот страшный недуг, когда само желание жить угасает, как свеча на ветру. И вот узник пишет узнице. Изгнанник утешает изгнанницу. Больной врачует больную. Человек, у которого отняли всё — кафедру, паству, дом, свободу, здоровье, — этот человек находит в себе силы не просто утешать другого, но учить его величайшей из истин, какую только может вместить человеческое сердце. Он пишет ей о Промысле Божием. О том, что есть сила, неизмеримо превосходящая все козни человеческие, все бури житейские, все болезни телесные, — сила Бога, Который ведёт каждого из нас путём, непостижимым для нашего ограниченного разума, но непременно ко благу. «Кормчие, — писал он, — когда дует сильный ветер, если распустят паруса свыше надлежащей меры, опрокидывают корабль, а если станут управлять им как следует, то плывут с полной безопасностью. Зная это, моя боголюбезнейшая госпожа, не отдай себя во власть уныния, но рассудком одерживай верх над бурей». В этих словах — не отвлечённая философия кабинетного мудреца. Это голос человека, чей корабль трещит и стонет под ударами волн прямо сейчас, в эту самую минуту, пока рука выводит строки на пергаменте. Человека, который сам стоит у штурвала посреди бури — и не просто держится, но ещё и указывает другим путь к гавани. Но главное учение Златоуста заключалось в одной простой, однако бесконечно глубокой мысли, которую он повторял снова и снова, в проповедях и письмах, в годы славы и в годы изгнания: Бог всё, что ни посылает нам, посылает для нашей пользы. Не для наказания как самоцели. Не по равнодушию. Не по забвению. А именно для пользы — для той единственной и высочайшей пользы, которая состоит в спасении человеческой души. «Мы должны быть убеждены только в одном, — писал святитель, — что Бог всё посылает для нашей пользы, а самого способа не исследовать, и не роптать, и не унывать, когда не знаем его. В том-то, главным образом, и состоит Промысл, что причины для нас непостижимы». И в другом месте, с той же несокрушимой уверенностью: «Никто столько не старается сделать нас совершенными, великими и во всём благопризнательными, как сотворивший нас Бог. Потому-то Он благодетельствует часто и против воли, и ещё чаще — без ведома нашего». Против воли и без ведома нашего. В этих словах — ключ ко всему учению Златоуста о страдании. Подобно тому как врач, исцеляя больного, причиняет ему боль — и больной кричит и сопротивляется, не понимая, зачем его режут, — но врач знает, что без этой боли не будет исцеления. Так и Господь, Врач душ наших, попускает нам скорби не потому, что Ему угодны наши страдания, а потому, что без них душа не исцелится от смертельной болезни греха. И подобно тому как добрый отец, не желая потакать капризам дитяти, отбирает у него нож или горящие уголья, хотя дитя плачет и протягивает руки, — так и Бог порою отнимает у нас то, что мы считаем благом, но что на самом деле несёт нам погибель. И порою даёт нам то, что мы считаем злом, но что на самом деле ведёт к жизни. В этом — весь Промысл. В этом — вся непостижимая и вместе с тем бесконечно милосердная мудрость Божия. Три года провёл Златоуст в Кукузе. Три года писем, молитв, болезней. Он сам описывал своё положение без прикрас: «Вот уже третий год живём мы в ссылке, будучи обречены в жертву голода, язвы, войн, непрерывных осад, невыразимой пустынности, исаврийских мечей и ежедневно грозящей смерти». И при всём этом он не прекращал писать. Двести сорок пять писем отправил он из ссылки — епископам, пресвитерам, диакониссам, друзьям, незнакомым людям, которых никогда не видел, но которые нуждались в его слове. И в каждом из этих писем — как нить, пронизывающая всю ткань, — звучала одна и та же мысль: Бог промышляет о нас. Всё, что с нами происходит, — к нашей пользе, даже если мы не понимаем как. «Насколько у нас усиливаются испытания, — писал он Олимпиаде, — настолько умножается у нас и утешение, и тем более отрадные надежды имеем мы на будущее». Вдумайтесь в эти слова: не вопреки испытаниям приходит утешение — а именно по мере их возрастания. Чем глубже рана, тем обильнее целительный елей, изливаемый рукой Божией. Но вот наступил четыреста седьмой год. Враги Златоуста не успокоились — из столицы пришёл приказ перевести его ещё дальше, в Пифиунт, нынешнюю Пицунду, на самый край обитаемого мира. Это был, по существу, смертный приговор, облечённый в форму административного решения. Те, кто его посылали, знали, что больной старец не переживёт этого пути. И он не пережил. Три месяца длился последний переход. В зной и в дождь, по дорогам, размытым осенними ливнями и выжженным летним солнцем, без врачей, без лекарств, без элементарных удобств. Стража не щадила его — подгоняла, не позволяла остановиться, не давала отдыха даже тогда, когда он едва мог переставлять ноги. Тело, давно уже истончённое болезнями, сдавало день за днём, час за часом. Кожа на лице пожелтела и натянулась на скулах, глаза запали, руки, некогда уверенно державшие перо, которым были написаны тысячи страниц, теперь дрожали от слабости. Но дух — тот самый дух, что тридцать лет звенел над Антиохией и Константинополем, как золотая труба, — оставался несломленным. Четырнадцатого сентября, в маленьком понтийском городке Команы, силы окончательно оставили святителя. Осеннее солнце стояло ещё высоко, но для него уже наступал иной свет — тот, что не знает заката. Его внесли в церковь, облачили в белые ризы, причастили Святых Христовых Таин. Он лежал, истощённый до последнего предела, в том состоянии, когда тело уже почти не принадлежит человеку, а душа стоит на самом пороге вечности, и дыхание мира сего становится тише, тише, пока не уступает место дыханию вечности. И в эту минуту — в минуту, когда всякий иной мог бы проклясть свою судьбу, когда даже самый стойкий мог бы усомниться в благости Того, Кто допустил всё это, — святитель Иоанн Златоуст произнёс слова, которые пережили столетия и тысячелетия, слова, что звучат и будут звучать до скончания века: **«Слава Богу за всё!»** За всё. За двенадцать лет блистательной проповеди в Антиохии — и за три года одиночества в Кукузе. За тысячи лиц, обращённых к нему в переполненном храме, — и за равнодушные лица стражников на пыльной дороге. За славу — и за бесчестие. За здоровье — и за болезнь. За жизнь — и за смерть. Он и сам писал об этом изречении в одном из своих писем: «Ты оживил меня и привёл в восторг тем, что, сообщая печальные известия, присоединил к ним изречение, которое надобно прилагать ко всем случайностям в жизни, — сказавши: Слава Богу за всё. Это изречение — роковой удар диаволу. Кто его употребляет, для того оно величайший залог неприкосновенности и радости среди всякого рода опасностей. Как только произнесёшь его, мгновенно разгоняются облака печали». Роковой удар диаволу. Не учёные трактаты, не многотомные сочинения — а три слова, произнесённые из самой глубины страдания, обращают в прах все козни врага. Потому что в этих словах — совершенная вера. Вера в то, что Бог не отступил, не забыл, не оставил. Вера в то, что Его Промысл охватывает всё — и великое, и малое, и радостное, и скорбное. Через тридцать один год после кончины святителя мощи его были торжественно перенесены в Константинополь. Предание сохранило удивительное свидетельство: когда ковчег с нетленными мощами был внесён в храм, народ, заполнивший улицы столицы, возгласил едиными устами: «Прими престол свой, отче!» — и уста святителя, лежащего во гробе, отверзлись и произнесли: «Мир всем!» Так Промысл Божий, о котором Златоуст учил всю свою жизнь и который засвидетельствовал своей смертью, явил себя и после его кончины. Того, кого изгнали с бесчестием, Господь возвратил со славой. Того, чьи уста заставили замолчать, Господь заставил заговорить из гроба. И до сих пор, когда человек, попав в беду, собирает последние силы и произносит: «Слава Богу за всё», — он произносит эти слова вслед за Златоустом. Вслед за тем, кто прошёл через все круги земного страдания и на последнем из них засвидетельствовал непоколебимую, как основание мира, истину: Бог всё посылает для нашей пользы. И быть может, в этом и состоит главный урок, который оставил нам Златоуст, — урок, равно необходимый и в пятом веке, и в двадцать первом. Когда болезнь приковывает нас к постели, когда друзья отворачиваются, когда рушится то, что мы строили годами, — именно тогда, в самой глубине страдания, и открывается то, чего не увидишь в благополучии: рука Божия, ведущая нас. Не к погибели. Не к бессмыслице. Но к той единственной пользе, ради которой и сотворён человек, — к спасению его бессмертной души. Нужно лишь довериться этой руке, как доверился ей Златоуст, — и произнести вслед за ним три великих слова, разгоняющих облака печали. --- **Источники:** 1. Житие святителя Иоанна Златоуста: https://azbyka.ru/days/sv-ioann-zlatoust 2. Письма к Олимпиаде (404–407 гг.): https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/pisma_k_raznym_licam/4 3. Письма из Кукуза: https://pravoslavie.ru/1962.html 4. Творения святителя Иоанна Златоуста: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/